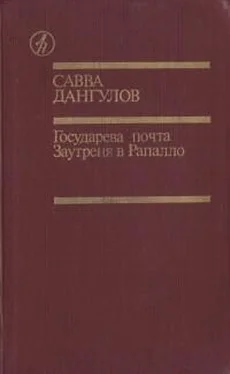— Так полагал Владимир Ильич: самый первый.
— Он сделан?
— Несомненно: в Генуе.
Мы расстались: не ясно ли было, что Чичерин осторожно коснулся содержания письма, написанного этой ночью Ленину?
Поздно вечером я выглянул в сад и на неблизкой аллее увидел Красина. Покров облаков застил небо, но не в силах был упрятать полукружье луны, ее диск хотя и был усеченным, но давал достаточно света, чтобы высветлить аллею и фигуру Красина, остановившегося в раздумье.
О чем он мог думать сейчас? То, что совершилось сегодня, было доблестью всей могучей кучки дипломатов, собравшихся в Санта — Маргерите. Но у Красина тут была своя немалая ноша, которую он пронес через годы, видя цель. Наверно, эта цель могла и не соответствовать в полной мере всему, что произошло сегодня, но, приняв дух и формы Рапалло, внушила уверенность. Это всегда дорого, но тем более дорого, когда жизнь не так бесконечна. Знал ли это Красин в этот апрельский вечер двадцать второго года, знал, мог прозреть, мог предвидеть?
К тому, что скажет время, трудно что–либо прибавить: оно точно открывает тебе глаза. Познать истину значит провидеть? Но как проникнуть за горы лет, нет, не десятилетий, а хотя бы лет?.. А может, неведение иногда лучше провидения и время не столько скрывает доброе, сколько защищает от недобра?.. Провидишь — и упадешь замертво… Все началось с головокружения — поплыла земля. Нет, в ветре, что возник и легко качнул тебя, не было могучести — тихий ветер… Он сказал себе: «Это, кажется, было и прежде, обычная слабость…» — и, нащупав стул, сел, закрыв глаза. Розовые круги, бледно–розовые, взмывали и падали, их ткань была ветхой, она расползалась на глазах… Он открыл глаза, и новый порыв ветра, все такого же тихого, повалил его — он едва не опрокинулся навзничь. Потом долго сидел присмиревший, отсчитывая секунды… Больничная койка. Разговор с врачом, требовательно–доверительный… «Кровь, кровяные шарики…» Он и прежде умел вышибать у врачей запретное, самое запретное. Цифра была названа. Остальное было вопросом умения оперировать цифрами, не думал, что его инженерный дар сослужит ему такую службу. «Число кровяных шариков уменьшалось в энной пропорции…» И в какой связи это находится с количеством дней, отпущенных человеку? Карандаш обломился, и не было сил его очинить, впрочем остальное уже можно было сосчитать и в уме. Цифра, которую он получил, ошеломляла: ему осталось жить девяносто два дня, даже не сто, а девяносто два. Он выбрался из госпитального заточения. Девяносто два дня — это много или мало? Наверно, у всех смертельно раненных мысль идет одной дорогой: разобрать бумаги, разобрать, разобрать… Он уединился, наказав, что никого не хочет видеть; день и ночь шелестит бумага, сухая, пыльная. Он заточил себя в «одиночку», в цитадель одиночества, у которой стены едва ли не аршинной толщины. Но оказалось, что и эти стены могут пасть: вдруг явился человек, да, человек из тех, которых посылает сама судьба, недаром та же судьба облекла его именем врача… И вновь операционный стол, ампулы молодой крови, заветное обновление… Хорошо бы сейчас в Италию, к теплому морю, в сухую тень прибрежных рощ… В Сан — Ремо, Кава–де–Лавания, Санта — Маргериту… Тут сами названия благословенных этих мест, само звучание этих имен — Сан — Ремо–о–о!.. Кава–де–Лава–ния–я–я!.. Санта — Маргерита–а–а!.. — способно вдохнуть новые силы, исцелить. Он устремляется к теплому морю, лазурному морю… А может, дело не в море, а в человеке, в его способности сшибить недуг? Ведь это же не легенда: атаковать недуг иным недугом, еще более жестоким, и сшибить его. Врачи говорят: «Возник новый вирус, и он сглотнул старый…» Сглотнул?.. Но, быть может, человеческая воля, всесильная воля, не слабее этого нового вируса? Быть может, в силах человека спалить злое жало, поселившееся в тебе? Ну, если и недоберешь собственных сил, в твоей власти призвать силы солнца и воды? Ну, кликнуть клич и воззвать к их доброй воле?.. Эй ты, великая благодать юга, помоги человеку! И вы, горы! И вы, рощи, — не зря же у вас слава райских! И ты, царь–море!.. Помоги, помоги!.. Но это был не столько гром сотрясающий, сколько тишина первозданная, она располагала к самоуглублению. «Видно, каждый Моисей должен умереть у входа в землю обетованную. Слепая, злая, проклятая судьба…» Он вернулся в Лондон к повседневным делам, к труду — страдная красинская вахта. «Когда болеешь, когда чувствуешь на своем лице дуновение последнего часа…» Он так и написал: дуновение последнего часа. В канун октябрьской даты в посольстве был прием — собрался весь Лондон. Да, сотни гостей стеклись в русский дом, как называли посольство, но среди них не было ни одного, кто бы не знал, что за стенами приемных залов умирает посол, умирает с тем храбрым терпением, с каким прожил жизнь… На пределе одиннадцати, когда остались только свои, впервые открылись нижние двери и все, кто был в доме, медленно сошли в сад. Посол услышал голоса внизу, тронул створку окна. «Подойдите сюда, все подойдите, — попросил он. — А не спеть ли нам ту тревожную, что пели в начале века?..» Тревожную? Песня, точно большая лодка, идущая наперекор волне, набирала силу медленно: «Вихри враждебные веют над нами, черные тучи…» Чужое небо принимало русскую песню — в ней, в этой песне, было прозрение России, способное исторгнуть слезы счастья и укротить боль… В Лондоне умирал русский посол.
Читать дальше