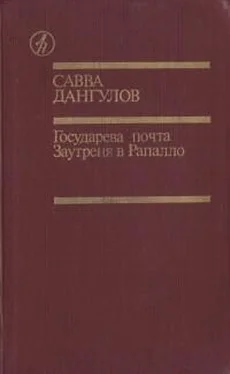Он внимательно смотрит на меня:
— Именно, свое… Многомудрый Горчаков называл его красноватым — смею думать, одна из тех шуток канцлера, которая была только по форме шуткой…
Вот так–то, красноватый.
Тур наших бесед с Чичериным затронул тему существенную: Василий Николаевич. Существенную и деликатную: как подступиться к ней? Лучше всего это сделать в паузах — природа не терпит пустоты… Но когда она наступит, эта пауза, — после Франкфурта, а может, после Берлина?..
Красин имеет обыкновение все писать сам, он пишет на нелинованных листах некрупным и четким почерком — по всему, он работал в своем Баку в подпольной типографии и его рукописи шли в набор без перепечатки. Наоборот, Литвинов полагает, что оперативная дипломатия теряет смысл, если она делается медленнее, чем должна делаться. Поэтому все, что может быть ускорено, Литвинов старается ускорить. На его взгляд, дипломат не должен себя отдавать во власть перу, медленно движущемуся по бумаге, если есть возможность призвать стенографистку и за два–три часа сотворить документ, который в иных обстоятельствах потребует дней, надо это сделать немедленно. К тому же динамичная мысль Литвинова действует, если ощущает темп, — во всех иных обстоятельствах она лишена энергии.
«Иван Иванович, к Литвинову!» — по мере того как наш поезд удаляется от Москвы, я слышу эту фразу все чаще. У этих слов есть свое объяснение: ко многим достоинствам Хвостова следует прибавить и то, что он стенограф. К тому же знание трех европейских языков он сочетает с достоинством для человека нашей специальности бесценным: у него есть слог. И не только это: как все хорошие стенографисты, Хвостов знает машинку. Если бы у меня была необходимость воочию изобразить моих коллег, придав им нечто такое, что способно заменить, например, самое существо человека, его натуру, его лицо, то я бы Литвинова воссоздал с его желтым портфелем, Воровского — с томиком стихов в руках, а Хвостова — с машинкой. Мне иногда кажется, что Хвостов так прочно приковал себя к этой машинке, что не способен написать фразы без того, чтобы не обратиться к своему «ундервуду» — здесь его сила и тут, возможно, его слабость. Но во многом и сила: Литвинов это понимает, все чаще взывая к помощи Хвостова. Однако как ни безусловны достоинства Хвостова, его образ не вызывает у дипломатов того единодушия., какое мог бы вызвать: одни считают его человеком высокопрофессиональным, другие — всего лишь мастеровитым. Так или иначе, а без помощи Хвостова не обходится и рациональный Литвинов, который не часто обращается к помощи других, предпочитая все делать сам. Что бы мы ни думали о Хвостове, из молодых он самый осведомленный. Может, поэтому меня, признаться, встревожил не на шутку вопрос Хвостова, который он врезал мне едва ли не в лоб:
— Этот молодой Рерберг, отправившийся в Италию за наследством, действительно знаток генуэзского Черноморья?
Что тут можно сказать? У слов Хвостова мог быть подтекст, запрятанный достаточно глубоко. Допускаю, что Хвостов пришел к этому вопросу какими–то своими путями, и тогда поистине надо было бить тревогу, ибо обнаруживало это истину чрезвычайную: да знает ли Чичерин о Рерберге? А возможно и третье: информированный Хвостов прослышал про отношения Марии и Игоря, решив эти отношения таранить. Впрочем, если не таранить, то нанести им ущерб — не думаю, что последний разговор Ивана Ивановича с моей дочерью охладил воинственную энергию Хвостова, если, разумеется, она, эта энергия, им в какой–то мере владела.
— У Рерберга были находки в Восточном Крыму, — заметил я с видимой лаконичностью: продолжение разговора не входило в мои расчеты, что Хвостов уловил тут же — он ушел.
А я вернулся в свое купе, так и не успев совладать с выражением крайнего смятения.
— У тебя такой вид, точно ты удрал от стаи борзых, — я слышу твое дыхание, — заметила Маша, оглядев меня. — Да что с тобой?
— Нет, я ничего, — попробовал я успокоить Машу. Я подумал: говорить сейчас о Рерберге значит выдать себя — необходима пауза, хотя бы самая небольшая. Но пауза против моей воли продлилась до вечера. Поезд шел к Одеру, только и света было за окном, что огонь фонарей, обступивших нестройной толпой полустанки — здесь их много, этих платформ. Фонари будто врывались в купе, и тогда я видел Машу — от света фонарей ее глаза точно накалялись, но не могу сказать, что в них поселилась тревога.
А ты не допускаешь, что Чичерину известна история Рерберга? — спросил я Машу; фраза была нарочито законченной и броской, я думал над ней.
Читать дальше