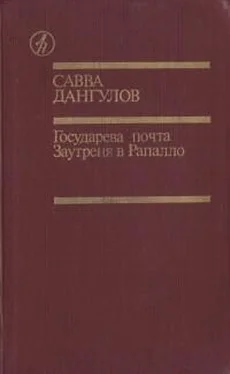— Вы полагаете, что, отвергнув наше требование о признании, Антанта сам факт неприятия обратит в средство давления?
— Несомненно, — подтвердил Боровский. Ею голос, полный иронии, когда речь шла о фамильной табакерке британского монарха, сейчас стал иным: в нем, в этом голосе, жили покой и необоримость раздумья.
— Антанта не пренебрежет, если это прибавит ей силы, — заметил Литвинов, не отрывая глаз от бумаги, в которую был погружен.
— Вы полагаете… прибавляет, Максим Максимыч?
— Конечно же. — У Литвинова было покушение ответить на этот вопрос со всей возможной категоричностью, но он щадил собеседника и вложил в свой ответ ту меру терпимости, какая тут была возможна. — Все–таки прибавляет, Леонид Борисович, все–таки…
Красин обратил взгляд на Чичерина, точно спрашивая его: так, Георгий Васильевич? Чичерин склонил голову в знак согласия. Так — точно говорил он.
Я стал невольным свидетелем диалога, который при желании мог многое объяснить. Что именно? Корректную настойчивость Чичерина. Воинственность Красина, который при всех обстоятельствах готов драться до последнего.
В чичеринском кабинете сейчас находилась едва ли не вся наша делегация… Этот звонок из Кремля определил степень готовности и меру понимания происходящего. Впрочем, этот звонок определил и иное: согласие, которое лежит в основе каждого собирания сил. Именно согласие — корректного Чичерина, строптивого Красина, деятельного Литвинова, полного иронического огня Воровского. Конечно, каждое из этих прилагательных условно, но оно тем вернее, чем точнее соотносится с фактами. Что, например, означает согласие Воровского? Тот, у кого есть память, не может не вспомнить нечто уникальное: в апреле семнадцатого (именно, в апреле семнадцатого!), за полгода до Октября, Воровский напечатал в большой шведской газете «Политикен» статью о Ленине, сказав в ней все, что мир узнал о Ленине по понятным соображениям уже после Октября. Именно поэтому эта статья звучит как некое пророчество: назвав Ленина вождем русской социал–демократии, Воровский заметил: «Он вырос из массового движения русского пролетариата и рос вместе с ним…» Но в первосути этого провидения нечто такое, о чем речь шла выше: понимание происходящего. В апреле семнадцатого, когда буржуазная пресса связывала будущее России не иначе как с победой Февраля, Воровский с завидной уверенностью предрек характер грядущей революции. Поэтому если говорить об истоках нынешнего согласия с Лениным, то у Воровского, например, оно имеет свою предысторию.
Ну что ж, пожалуй, заглавная страница генуэзского журнала открыта: возникли первые даты, отмечающие этап подготовки, стали накапливаться документы, у всесильной темы «Конференция» появились подтемы, при этом с каждым днем их больше, как ни разборчивы мы в выборе прессы, конверты с вырезками точно белые горы обступили нас. Короче, возникал мир новый, у которого были свои тропы, в них следовало ориентироваться с той уверенностью, какая тут была необходима.
— Вы знаете английский анекдот о мистере Эйд–же? — спросил меня сегодня Георгий Васильевич. — Ну, этот известный анекдот о профессоре, которому жена поручила сварить яйцо, а он бросил в кипяток вместо яйца часы, по которым следил, чтобы яйцо свари-
лось? Очевидно, наше с вами призвание сводится к тому, чтобы положить в кастрюлю не часы, а яйцо…
Чичерин любил, смеясь и чуть–чуть озорничая, возвести на себя напраслину, назвав себя известным растерей. Вот и сейчас он точно говорил: я мастак по части варки часов, а как вы? Но растерей Георгия Васильевича можно было назвать, только глядя на его письменный стол, на котором возвышались кипы бумаг и газет. Надо отдать должное Чичерину: его память тут творила чудеса. В нужный момент он мог погрузить свою бледную руку в кипу бумаг и, подобно фокуснику, извлечь нужную — что ни говорите, а было впечатление чуда. Надо понять Чичерина: человек живых знаний, он был далек от того, что попахивало канцелярией, хотя и понимал, что дипломат подчас должен быть и канцеляристом. Когда же стихию канцелярии отвратить было нельзя, Георгий Васильевич взывал к помощи. Ныне обращение было адресовано мне. На первый взгляд задача была не так уж и мудрена: надо было в кастрюлю с крутым кипятком положить не часы, а яйцо. На самом деле все обстояло не так просто: вопреки превратностям дальней дороги должно быть ощущение близости Кузнецкого моста. Да, ощущение того, что на расстоянии протянутой руки расположилась некая служба информации, собравшая в своих железных шкафах сокровища наркомкндель–ских архива и научной библиотеки — в том большом и многосложном, что завтра вызовет Генуя, нет вопроса, на который не могла бы ответить эта всесильная служба.
Читать дальше