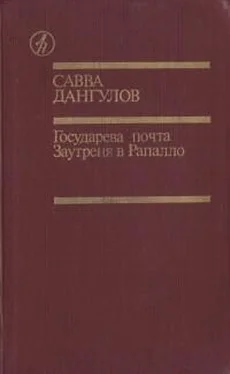Я вошел в дом и застал ее у той же кафельной стены с раскрыленными руками.
— Вот я говорю Федору Ивановичу: все, что человеку дано от природы, непобедимо на веки вечные — он способен нести это, как будто бы не было набатных событий века, наперекор войнам, вопреки революциям…
— И ты была не голословна — назвала имя?
— Да, конечно: Чичерин. Кем был бы он в старой России? Министром иностранных дел. Кем он стал в России новой? Министром иностранных дел. Главпг
в нем самом, революция не в счет…
— И Федор Иванович с тобой согласен?
— Не совсем: он не убежден насчет старой России…
Гость пил свой чай, давно остывший; когда он подносил стакан ко рту, ложка в стакане позванивала — тайная мысль гостя, по всему, была лишена покоя.
— А по мне, действует старое правило дипломата карьерного: надо отыскать свою лошадь и не мешкая поставить на нее — остальное совершится само собой…
— Чичерин отыскал, на ваш взгляд?
— Отыскал, разумеется.
— И вы полагаете, что это на него похоже?
— А почему бы и нет?
Я посмотрел на Машу — она уловила этот мой взгляд, требующий ответа.
— Что ты так смотришь на меня, Воропаев? Я согласна с Федором Ивановичем: похоже, похоже!.. Вот эта его усмешка скептическая. Ты заметил: есть люди, которые смеются только голосом?
Федор Иванович откликнулся из прихожей:
— Именно: одним голосом…
Он будто нарочно приурочил эти свои слова к уходу: хлопнул дверью и оборвал разговор — поминай как звали.
Уход дорогого гостя не заставил ее отойти от кафельной стены: она точно вросла в нее.
— Не осчастливил он тебя перспективой встречи с Игорем Рербергом? — спросил я и пошел к дивану, что стоял у дальней стены, — между ею и мною была вся наша гостиная.
— Нет, разумеете я, — вымолвила она. — А что? — Ей мог показаться мой вопрос странным, она на всякий случай произнесла: «А что?»
Я снял ботинки и забрался на диван; она следила за каждым моим движением неотрывно — она учуяла, что разговор предстоит необычный.
— Ты знаешь, зачем приезжал Чичерин?
— Зачем?
Я слышал сейчас ее дыхание — оно, как у нашего Рекса, становилось у нее заметнее в минуту волнения.
Предстоит поездка в Геную, и он просил меня быть с ним…
— А я?
— Ты поедешь со мной…
— Не шуги так…
— А я и не шучу — честное слово.
Она будто оттолкнула от себя кафельную стену — устремилась ко мне:
— Вот тебе, вот тебе, тиран мой… — Ее кулаки добрались и до моего загривка — она развоевалась не на шутку, ее левая бровь изогнулась, того гляди преломится.
— Верно говорю: не шучу.
— А, вижу, что ты не шутишь.
Я потянулся рукой к ее плечу и вдруг увидел, что моя рука приплясывает — ее колотил озноб, нет, это был не студеный ветер, который вдруг она ощутила всем телом в теплом доме, это, пожалуй, был страх.
— Тебе… боязно, Мария?
Я сжал ее плечо — толчки были твердыми, она едва сдерживала их.
— Нет.
Но я знал: ей боязно и у этой боязни было свое объяснение — Рерберг. Одному богу известно, как он себя там поведет, в лигурийских Заломах, если узнает о поездке в Геную. А он узнает наверняка. Мое имя ему на это укажет. Невелика птаха — Воропаев, но двух Воропаевых в Наркоминделе нет, как нет в Москве двух Остоженок или двух Марьиных Рощ. Да, само имя укажет, а коли так, то ее встречи с Рербер–гом не предотвратить, встречи, у которой могут быть последствия превеликие… Страшно подумать: последствия, последствия…
— Ты дал ему согласие?
— Нет.
— Обещал дать?
— Все зависит от тебя, Мария…
— От меня?
Всю ночь я слышу,' как она ходит по дому. Все зависит от нее, все зависит от нее… Вздыхают половицы — в этих вздохах и тревога и Машино сомнение. Даже как–то непохоже на нее: куда девалась ее гордыня, ее неуступчивость? Я слышу, как она стоит посреди большой комнаты затаившись- а потом опять идет, и вздыхают, неудержимо вздыхают сосновые доски нашего рассохшего пола. Вот оно сшиблось, коренное: сберечь любовь и столкнуть отца с обрыва, охранить СЕятое и не осквернить седой родительской гордыни, а заодно и своей, той, что держит имя твое, что дает возможность и в кругу недругов не отвести глаз, не упрятать лица… Она идет по дому, и вслед за нею незримо сеются звуки: скрип половиц, урчание нашего старого примуса, который Маша зажгла (в часы бессонницы она греет молоко), гудение ветра в гостиной — выходя из нее, она открывает форточку. Краем глаза я вижу, как дочь моя возникла в раме окна, выходящего на улицу: луна на вызреве и дымная лунность мягко объяла Машу, кажется, что ее волосы в холодном пламени луны… Этот огонь, подпаливший ее волосы и точно сделавший их светящимися, мнится мне и тогда, когда она выходит из поля света…
Читать дальше