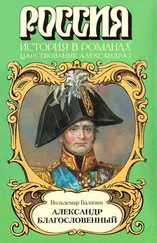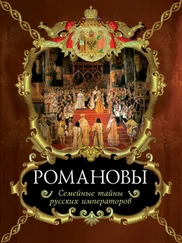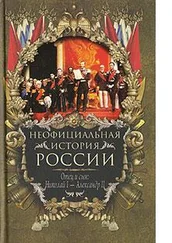1 марта 1762 года М. И. Кутузов получил назначен ние на новое место службы — в Ревель, к петербургскому и эстляндскому генерал–губернатору, генерал–фельдмаршалу, герцогу Петру Августу Гольштейн — Беку…
* * *
В последнюю ночь, перед тем как отъехать в Ревель, приснился Михаилу дивный сон.
Он спал в той же комнате, что и в детстве, только кровать была другой — взрослой 'и жесткой, а сон был все тем же, что и в детстве: снова пришла к нему маменька.
В эту ночь маменька была ласкова, но серьезна. Она пришла к нему закутанная в какую–то диковинную белую шаль, а затем вдруг сняла ее с плеч, плавно развернула, и из рук ее побежала широкая чистая холстина, какие белят бабы, соткав изо льна.
Миша видел такое, когда папенька однажды взял его с собою в их псковские вотчины. Холстина заструилась из рук маменьки светлым ручьем и пала наземь, превратившись в тропинку.
«Ступай, Мишенька, — сказала матушка. — Дай бог, чтоб была твоя дорожка чиста да ровна, как моя шаль».
И исчезла. И вместе с нею исчезла холстина. А Миша, взглянув под ноги, увидел дорогу — узкую, каменистую, прячущуюся где–то рядом.
«Неужели будет она столь коротка, дорога моя?» — спросил он матушку, надеясь, что она еще где–то здесь, где–то рядом и сейчас снова появится. Однако ж матушка не появилась, но ответить — ответила.
«Гляди, сынок, — сказала матушка, — вот она твоя дорога».
И Миша увидел вдруг дальние–дальние дали и реки, бурно бегущие поперек его пути, и чащобы с буреломами, а на горизонте черные горы — высокие и крутые, упирающиеся в поднебесье. Вкруг них курились облака, сбирались тучи, и между тучами и землею змеились бесшумно белые ломаные линии молний.
А над тучами, проткнув их острыми пиками, высились макушки ледяных горных вершин. И все же еще выше он увидел орлов, парящих под самым солнцем.
Миша крикнул еще раз: «Маменька!» Но ответа не было, и он пошел вперед один, не отрывая взора от орлиной стаи, которая своим клекотом будто призывала его к себе в товарищи.
«Главная квартира. Калиш. 13 марта 1813 года».
Михаил Илларионович потер тыльной стороной ладони лоб и прикрыл от света свечи вконец уставшие глаза. Обмакнув в последний раз перо, он поставил цифру «4» и написал: «1761 года, июня 5 дня, отчислен из Артиллерийской и Инженерной школы для назначения в действительную службу».
* * *
«Полвека минуло, полвека, — подумал Кутузов, и вдруг в голову ему пришло: нет, не полвека — век. Мой век».
Он положил голову на руку и задумался. Ему вспомнился день — 11 августа прошлого года, когда он выехал из Петербурга к войскам.
Он вспомнил жену, дочерей, внуков, оставшихся у порога дома, и тысячные толпы людей, стоящих вдоль дороги, по которой он ехал.
Потом он потянулся к стопке недавно полученных и еще не распечатанных писем и вскрыл верхний довольно пухлый пакет.
В нем сначала попали ему листки, исписанные по–русски твердою рукою Екатерины Ильиничны. Затем он извлек еще два письма, написанных по–французски легкой рукою Жермены де Сталь — его восторженной И высокоталантливой почитательницы. Кутузов взглянул на даты. Первое письмо было давним, написанным еще прошлой осенью, второе — только что пришло в Петербург из Стокгольма, и Екатерина Ильинична, прочитав письмо, приложила к нему и старое — осеннее.
Жена иногда пересылала Михаилу Илларионовичу письма, которые поступали лично к ней, если сведения, в них содержащиеся, могли заинтересовать Кутузова, или что–либо прояснить, или же, наконец, просто взбодрить и обрадовать его.
Он отложил письма де Сталь в сторону и достал листки, исписанные рукою Екатерины Ильиничны.
Она, как всегда, писала о всех пяти дочерях, о бесчисленных внуках, о нехватке денег, о банковских процентах, которые следовало немедленно гасить, о новых займах, о столичных слухах, пересудах и дворцовых интригах.
«Более двух тысяч душ в ее распоряжении, — подумал Кутузов. — Да сверх того еще восемьдесят тысяч серебром в год — все мое заграничное фельдмаршальское жалование, и вот на тебе — четыреста сорок тысяч постоянного долга».
Кутузов вздохнул — больше по привычке, чем из–за огорчения, — и, отложив письмо в сторону, представил Екатерину Ильиничну и всех дочерей — Парашу, Дарь–юшку, Лизаньку, Анну, Катеньку. Он вспомнил и первенца своего — Мишеньку, которого «заспала», нечаянно придавила и задушила во сне, кормилица; вспомнил, как ждали они еще одного сына, но так и не дождались — на свет одна за другою появлялись лишь девочки, — и еще раз вздохнул.
Читать дальше