1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 – Вот все и выяснилось, – Любовь Алексеевна снова попыталась успокоить Зою Петровну, но та успокаиваться никак не желала:
– Я не удержусь, я все-таки выскажу ей. И газету положу, и выскажу. Вот приедет за платьями… Ой, кто-то звонит. Глаша, открой, кто там?
Оказалось, что раньше мадам Чукеевой заявился ее супруг – пристав Закаменской части Ново-Николаевска. Тучный, запыхавшийся, Модест Федорович прогрохотал мерзлыми сапогами по полу, вошел в зал и, забыв поздороваться, развернул газетный сверток, встряхнул перед собой мятое, изорванное платье.
– Извиняюсь, что потревожил – служба-с. Зоя Петровна, глянь на этот наряд. Не ты его шила? А если ты – вспомни, кому…
Зоя Петровна испуганно подошла к Чукееву, осторожно, двумя пальчиками, взяла за подол платье и тут же отдернула руку, будто обожглась:
– Ой, ужас, оно же в крови!
– Ну, ясно дело – не в варенье. Иначе бы не приехал. Гляньте внимательней: может, признаете?
Зоя Петровна, беспомощно оглядываясь на Любовь Алексеевну, будто искала у нее сочувствия, со страхом осмотрела платье, вытерла пухлые руки платочком, сказала:
– Нет, Модест Федорович, это не моя работа.
– Тогда чья?
– Не знаю.
– Ясно, – Чукеев скомкал платье и завернул его в газету.
– А что случилось? Откуда оно? – не удержалась и спросила Зоя Петровна.
– А вам лучше не знать – крепче спать будете. Извиняйте.
Чукеев круто развернулся и загрохотал сапогами вниз по лестнице, оставив дам в полном недоумении.
5
Высокое, в рост, зеркало в деревянной оправе – вдребезги. Рюмки, фужеры и тарелки из посудного шкафа – в крошево. Сам шкаф расхлестан и вывернут чуть не наизнанку, осыпан, словно бисером, стеклянными осколками. На полу – расколотая ваза, вышитые салфетки, фарфоровые зверушки, сброшенные с комода, отодвинутого от стены и поставленного на попа. Дальше, на грязной, завазганной половице – тоненькая ленточка засохшей крови с прилипшими к ней пушинками из разодранной подушки. Тянется ленточка к худенькому скрюченному человеку, ничком лежащему возле стены. Это – акцизный чиновник Бархатов. На нем просторные шелковые подштанники, изорванные и в кровяных пятнах, такая же рубаха, располосованная на спине от воротника до пояса, а на голове – самокрутка, страшное изобретение диких азиатских племен: в веревочную петлю, натянутую на голову несчастной жертвы, вставляется крепкая палка, и палку эту начинают жестоко крутить. Трещит череп, глаза вылезают из орбит – человек после такой самокрутки уже не жилец.
И Бархатов был мертв.
Посреди разоренной комнаты стоял пуфик с зеленым верхом, и на нем сидел, уперев руки в колени, полицмейстер Гречман. Топорщил усы, показывая широкие обкуренные зубы, и смотрел, не отрывая глаз, в низ стены, туда, где ее закрывал раньше громоздкий комод. Голубенькие, с золотым проблеском обои сохранились здесь лучше, чем на остальной стене, совсем не выцвели и сияли, как большая прямоугольная заплата. У самого низа, у плинтуса, обои были сорваны и виделась толстая металлическая дверца, открытая настежь, а за ней – блестящее, из хорошей стали нутро небольшого тайника. В тайнике – пусто.
Гречман с трудом оторвал взгляд, поглядел на мертвого Бархатова, не удержался и выругался, словно сплюнул:
– Слизняк, сволочь мокрогубая…
И шаркнул подошвой сапога по полу, будто растер плевок.
Двери за спиной у него скрипнули, и Гречман, не оборачиваясь, рыкнул:
– Ну?! Чего?!
– Господин полицмейстер, там газетер из «Алтайского дела», просится на место происшествия, чтобы пропечатать…
– В шею! В шею его гони, Балабанов, так гони, чтоб кувыркался! Сволочи! Лишь бы растрезвонить! – Гречман тяжело поднялся с пуфика, закурил папиросу и уже спокойно, по-деловому спросил: – Чукеев не вернулся?
– Никак нет, господин полицмейстер, еще не вернулись, – Балабанов, двадцатидвухлетний парень, недавно принятый на службу в полицию, тянулся перед начальством, беспрестанно отдавал честь, и круглое краснощекое лицо его, похожее на наливное яблоко, являло собой настоящий образец самого ревностного отношения к делу.
Четко сделав «кругом арш!», так что взвихрились полы шинели, Балабанов вышел, а Гречман, снова оставшись один, еще раз глянул на пустой тайник, на покойного, в две затяжки допалил папиросу, оглянулся – куда бы пристроить окурок? – и, не найдя подобающего места, бросил на пол и растер сапогом. Все равно осмотр уже провели, вынюхали и проверили все щелки и закутки в доме, но ничего, кроме рваного бабьего платья, не обнаружили. Одна-разъединственная зацепка, да и та жиденькая. Соседи из близлежащих домов ничего толкового сказать не могли: «Не видели, не слышали». Вот и топорщил усы Гречман, вот и рыкал на своих подчиненных, пытаясь задавить в груди противный, сосущий холодок, причину которого знал только он сам: в тайнике акцизного чиновника Бархатова лежали бумаги, представлявшие для полицмейстера смертельную опасность. Кто их украл и как употребит?
Читать дальше
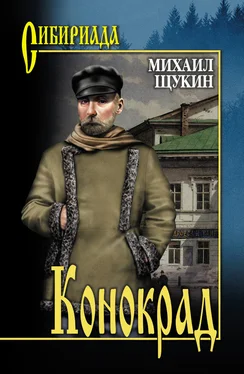

![Михаил Щукин - Нэстэ-2 [СИ]](/books/31692/mihail-chukin-neste-2-si-thumb.webp)


![Михаил Щукин - Рабыня [litres]](/books/35351/mihail-chukin-rabynya-litres-thumb.webp)





![Михаил Щукин - Нэстэ-4. Исход [СИ]](/books/405762/mihail-chukin-neste-4-ishod-si-thumb.webp)
