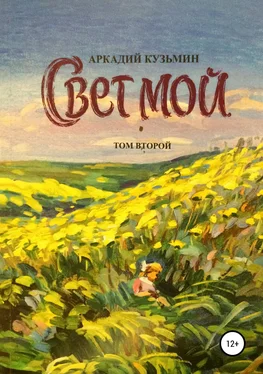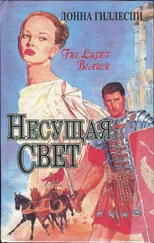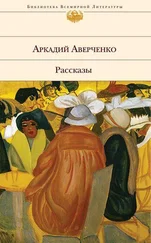Она убедила взять его с собой. Наташа послушалась ее.
От лесной шумливости, несказанно мягкой, серебристой Анна впала в сладко-вяжущую все сонливость. С легкостью как-то проваливалась в небытие, будто устав чувствовать себя вместе с бременем взвалившихся на нее давным-давно забот материнских. Неотложных. Но вместе с тем обостренным, контролирующим чувством она чувствовала, что безостановочно волоклась каким-то немыслимым волоком людская река, захватившая ее в поток; на пределе качались и качались, извиваясь темными рядами, неразгибаемые уже спины, плечи людей, побеленные снежком, как и косматые плечи осанистых елей, столпившихся – словно в недоумении перед тем, что было – у большака; тягучие шаркали сотни ног и скребли полозья санок об изъезженное дорожное покрытие, и фырчали, и гудели, и чадили газом проносившиеся взад-вперед громоздкие немецкие грузовики; и слышалась отрывистая, лающая нерусская речь, и опять – приглушенный скулеж и плач детей: «Ой, ручки у меня болят, болят мои ножки, миленькая мамочка моя». Это, – Анна знала ее манеру, – причитала, как большая, Танечка. Однако несильный детский плач перебивала вновь пришедшая метельная песнь, все усиливаясь вместе с непогодой, хотя вроде просветлело отчего-то вокруг.
Оттого ли она, мамочка, встряхнулась как-то – и опомнилась враз? Должно, должно быть. Опомнившись, Анна сообразила, что лес незаметно кончился: они выбрели опять на холодный, продуваемый, разгулявшийся простор, опять прибавили шаг. Для верности она вновь пересчитала всех своих, отмечая каждого глазами, завидно видящими все. Нагнувшись над санками, в момент, когда их движение немного застопорилось отчего-то впереди, она лучше подоткнула распустившиеся одеяла вокруг тельца скулившей Танечки; чуть подвинула ее ножки, онемевшие, ласково ее успокаивая своим близким прикасательным присутствием. А затем опять вобрала в свою ладонь маленькую ручку Верочки, которой следовала – для того, чтобы тоже не замерзнуть, сидя на вещах, – подвигаться опять. Может, пробежаться?
Ноющая боль и наново наступивший вой в голове у ней не прекращались.
И опять, опять пришла необходимость говорить самой себе: «Ну, держись-ка ты, горькая головушка! Держись!» Потому как не на шутку ускорился их марш. Марш изгоняемых.
И если выселенцы непроизвольно растягивались друг от друга, то чаще всего они сами старались пробежками ликвидировать разрыв между собой. Перед глазами у всех маячили те замученные молодайки, валявшиеся на обочине; это заставляло всех проявлять максимум осторожности, быть начеку, чтобы не давать сопровождающим солдатам ни малейшего повода для такой же физической расправы над собой, хотя многие едва держались на ногах от усталости. Тем более что наскольженные подошвы валенок скользили на отполированном ногами и шинами снегу, выдутом ребристо, наподобие рыбьей чешуи, вследствие чего идущие теряли равновесие, скользя, и падали часто.
Бездумно же, нисколько не думая об остальных, взвинчивали скорость хода возглавлявшие колонну – как-никак наиболее здоровые и ретивые ходоки, такие, как Силин. Здоровые, что ломовики.
Становилось всем тяжелей и тяжелей, и некоторые уже выбрасывали вроде б лишнее из вещей (уложенных с собой), что можно было выбросить, чтобы облегчить свое движение. Теперь, когда семилетняя Верочка подсаживалась на санки, и они заметно тяжелели, Наташа недовольно оглядывалась на нее. И Верочка спрыгивала снова под ее взглядом, с виноватостью.
Анна настолько зашлась, что у ней стало покалывать где-то под сердцем.
Итак, сбой, последовательный сбой, – ясно проносилось в Аннином сознании. Пришла беда, открывай ворота. Сначала взрывы бухают где-то вдали, потом – все ближе к тебе, ближе; сначала бегаешь из дому в земляное убежище, потом бросаешь ненадежный дом и столь же ненадежное убежище. Едешь на телеге, заваленной доверху вещами. Потом уже нет ни лошади, ни телеги и того необходимого для эвакуации количества вещей, есть только саночки с некоторыми узелками. А потом и этих саночек уже не будет; и не будет, может быть, и обуви на ногах – она износится, истреплется, а вещи кинутся, потому как дойдешь совсем до предела. И все еще будешь говорить себе: это еще не конец, родная, ты еще идешь-передвигаешься. И даже потом в самом-то конце будешь видеть выход, в той безмерной – по сравнению с высотой – низиной, в которую скатилась, или, верней, спихнули тебя твои вороги смертельные.
Читать дальше