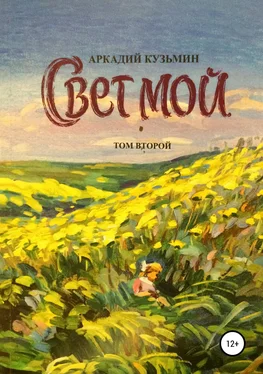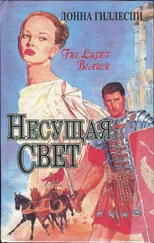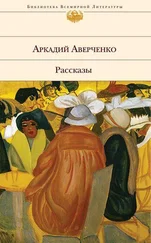А в воспаленных бессонницей глазах Анны возникала, словно в знакомом обморочно-тянучем тифу, возникала и строилась, подгоняя ее, однако, само собою, какая-то нереально безобразная чушь: это темно мерцавшее в ходьбе колыханье верениц согбенных спин, и ей, ясно слышавшей и спереди, и сзади очень напряженный, словно похоронный, скрипучий людской марш с участием посерьезневших даже младенцев, временами чудилось, что все это мерзкое творилось будто бы не с нею, а с кем-то еще, а она лишь чувствовала и свидетельствовала все в такой реальной степени – до убедительнейшей живости. И причиной этого, по-видимому, были ее повышенная впечатлительность и обеспокоенность. Но потому как чей-то грубовато желчный и одновременно вкрадчивый голос, выделяясь из сонма гудевших где-то в пространстве голосов, поминутно издевательски куражился над ней – встревал, перебивая ее, всех, и иронизировал над ней по-идиотски, – можно было твердо заключить, сказать себе: «А, пожалуй, это въявь нас, как бычков в заклание, ведут…»
Анну занимало, развлекая даже, пение пурги и то, что под это бесконечное пение она думала, а также голоса, раздававшиеся в голове у нее.
Кто-то все наговаривал ей вкрадчиво: «Уж ты, Макаровна, как ни привязывай на санках ради лишней подстраховки свою Танечку малую, только в холодину все-таки и можешь не сберечь ее; этакую прорву ребятишек для чего-то (на мученье?) нарожала, дура чистая, набитая, необразованная, – не предвидела, безумная, что заново дойдет издалека и засмердит зловеще зловоние всепожирающей войны; вот уже оторван от тебя и всех родных – чередом за мужем – и курчавый старший сын Валерий, вдогонку которого ты еще напутствуешь самыми нежнейшими и нужными, еще недосказанными словами материнскими, дабы он услышал их. Или говорят фартоватые немецкие начальники, гоня тебя на сладкие германские хлеба, ненасытная твоя утроба…» То в уме ее выплескивалось как-то наобум еще, вполне вероятно, оттого, что там досконально все перекипело под влиянием умопомрачающих событий, одним махом опрокинувших весь свет, и что она, искательно сейчас философствуя сама с собой (навыкла больше под бомбежками-обстрелами), вела еще какую-то вторую – созерцательную – жизнь, то есть смотрела на самое себя и на птенцов своих, и на всех-то окружающих, словно бы со стороны сверху. Но тут выделялся вроде б силинский голос – по-прежнему еще звенел злобой, налитый, бессовестный, иудин. И как будто и сам Силин, краснорожий пес с клюквенными глазками, дрыгался и лыбился перед нею. И поэтому прояснялось нечто для нее, обретало контуры действительности, той, в которой люди шествовали подневольно, не сами по себе.
– Мама, мама, ты опять не видишь ничего?! – внезапно, с укоризною, прикрикнула на Анну юная Наташа, старшая из дочерей, голосистая певунья, тащившая впереди за веревку вместе с мечтательным братом-подростком Антоном старые вместительные санки с узлами (на санках этих и сидела Танечка), скрипевшие полозьями на накате. Она, то ли почувствовав что, то ли услышав за спиной знакомый материнский вздох, услышав его даже за скрипом санок и шарканьем подошв бредущих, то ли заметив что-то неладное, обернулась на ходу, строго глянула прекрасными черными отцовскими глазами и прикрикнула – по-видимому, оттого, что мать забылась снова, несмотря на их недавний уговор и большую-пребольшую просьбу возмужалой характером дочери, которой исполнилось уже семнадцать лет. – Фу, какая, право!.. Догоняй!
III
Теперь, барахтаясь под колесами у немца, Анна умом своим сознавала: сказывалось все нечеловеческое напряжение текущих дней – они ее измучили морально и физически; потому она сейчас и не годилась никуда, была вся-вся разбитая.
Всех одолевала жажда, отчего идущие, нагибаясь, пригоршнями схватывали из-под ног желтый, нечистый снег и глотали его – в сторону ж боялись отойти во избежание трагических недоразумений. Все-таки разок Наташа дошагала до обочины и, что удивительно, здесь ногами зацепила за какой-то тугой мешочек, оброненный или выкинутый кем-то. Подняла его. Потом, развязав его, она увидела, что в нем был молотый кофе. Килограмма два, побольше. Он приятно даже пах.
– Да брось ты, что разглядываешь! – досадливо-неодобрительно сказала Анна. – Это лишняя нам тяжесть. Измудруемся. Кто-то, видать, не понапрасну выкинул. Не зря.
– Нет, доченька Наташенька, возьми, возьми, – кофе вам не помешает, – убежденно посоветовала Поля, – наоборот: может еще помочь, сберечь силы. Он еще очень пригодится, что вы!
Читать дальше