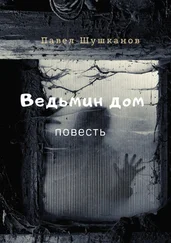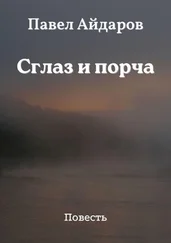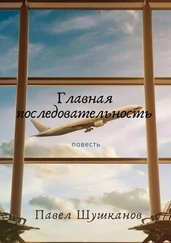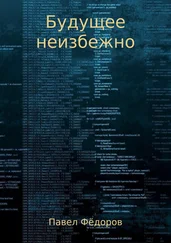Как уже упоминалось, что гулять большими компаниями, было обычным явлением в деревнях. И на этот раз за столом у Ефима Николаевича Шилова собралось много народу, это были близкие и дальние родственники, друзья и соседи. Были и приезжие гости.
Деревенское угощение не сильно отличалось своим разнообразием, но все, что возможно было приготовить из молочных продуктов, стояло на столе и, конечно, горы блинов. Еще совсем недавно можно было свободно достать любого сорта и вкуса рыбу, икру, но все это стало исчезать, а во многих местах все это уже исчезло с прилавков. Нет, как бывало большого выбора вин, коньяка, как крепкий напиток, теперь, преобладает с специфическим запахом китайская водка (хана).
Вскоре, после приветствий, взаимных поздравлений, пожеланий пошел оживленный разговор о современных событиях, заговорили и про былое, вспоминали «минувшие дни».
– А помнишь сосед, как в старину гуляли, «там», целую неделю и как молодежь каталась на санках с горы, подростки на молоденьких лошадках носились по широким улицам.
Никак нельзя забыть, то, что вошло в сознании людей и навсегда укоренилось. Это «там» будет у них в памяти вечно. И своим детям они рассказывали про родной край и внукам говорят об этом, а также кто виновен в том, что они покинули родину.
– Захар, а Захар, ты помнишь бегуна Савелия Ерохина? На пять верст не было ему равных во всей округе. А вот мой гнедко, в последнем забеге, обошел его на целую голову. Это было еще до прихода японцев.
Вмешался в разговор хозяин дома, Ефим Николаевич Шилов.
– А знаешь ты, чей конь был лучшим на дальний пробег?
– Как не знать, хорошо помню. Да вот только не уберег ты его.
– И здесь мои кони славились, кто не помнит пробег до города Хайлара – продолжал Ефим Николаевич. Не много, не мало, а восемьдесят верст.
– Опеть нам придется бежать, бяда, плохо становится здеся жить. А ведь было то какое приволье, душа радовалася – встревает в разговор, весьма захмелевший, дед Митрохин.
– А бежать то теперь, куды? – продолжал он.
– Ну, хватит тебе, дед. Никто никуда не побежит, – успокаивал его хозяин.
А между тем разговор становился все громче и громче. Но вот, среди шума, гама и громких голосов, раздается красивого тембра голос хозяина, все, как по команде замолкают. С оттенком грусти зазвучали звуки бархатного баритона, полилась над столом всем известная песня: «Слава, вам, братцы, герои Амура…». Он пел с таким, захватывающим душу чувством, что некоторое время все молчали, но вот, один, потом другой и, наконец, все застолье подхватило эту песню. Сильный тенор берет все выше и выше, и кажется, не вынесет, сорвется. Густой бас, большой силы и яркого тембра, как бы старается его придавить, но тенор с еще большей силой берет самый верх, звонкие, мягкие, чувствительные ноты льются нежным звучанием.
Красиво вплетаются в хоровое пение, женские голоса. Одна песня следует за другой, в которых «то раздолье удалое, то сердечная тоска…». В словах песен звучала глубокая страстная любовь, безумное веселье, то скорбь русской души. Некоторое время, под впечатлением исполненных песен, тихо беседовали о родных просторах, о родном казачестве, его славе и величии.
Но вот заиграла гармонь, невестка Шиловых плавно прошлась по кругу, помахивая в такт платочком, за ней одна за другой двинулись молодые девушки, а вот и мужчины пустились в пляс. Когда заиграл гармонист «русскую», выскочил в круг подросток, лет десяти да такие начал выделывать фигуры, гости повскакали с мест, чтобы получше разглядеть танцора. А он то начнет крутиться волчком, то пустится в лихую присядку, то выбивает мелкую дробь.
– Настоящим, паря, казаком будет, – подметил дед Степан Митрохин.
– Чьих, этот паренек-то будет? – спросил подслеповатый дед, всматриваясь в танцора.
– Внук хозяина.
Ефим то сам не плохой казак, – дал свою оценку дед Степан.
Снова хозяйка просит всех к столу, подают свежие горячие блины, Ефим Николаевич обносит хмельной чаркой гостей.
Если раньше, во время Великого поста, прекращались разного рода увеселения, в первую очередь песни и танцы, то теперь активистов – сэсээмовцы то не смущало, они устраивали вечера, в любое время. В Советском Союзе, несмотря гонению на религию народ тянулся к ней, не исключая и молодежь, но ей было весьма сложно попасть в храм. Вот, что говорил профессор Московской Духовной Академии, протоиерей Сергей Светозарский: «Чтобы войти в храм перед началом Пасхальной службы, нужно было обмануть, так называемых дружинников – это были не дружинники, а работники райкома комсомола. Мимо их надо было идти твердым шагом, делая вид, что идешь мимо храма и прямо у ограды резко свернуть в ворота и пройти. Надо сказать, что это удавалось».
Читать дальше
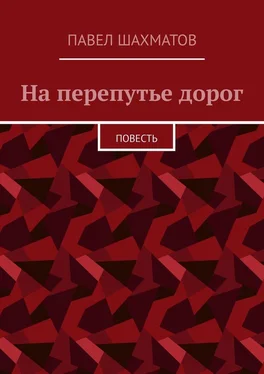
![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)
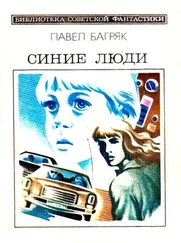
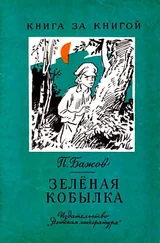
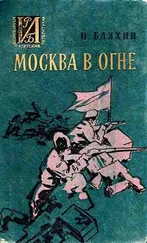


![Павел Журба - Александр Матросов [Повесть]](/books/399284/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest-thumb.webp)