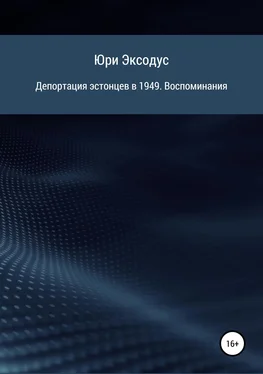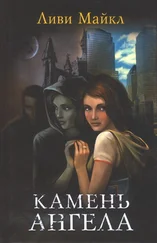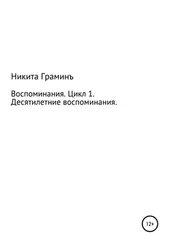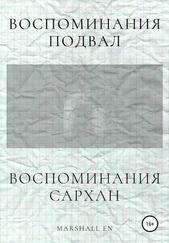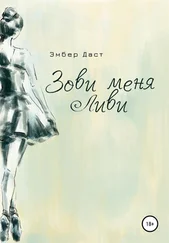К вечеру большой зал был полон народу. А ночью подъехали крытые брезентом грузовики, вопреки прогнозам, что повезут нас железной дорогой. И всех погрузили в эти грузовики. В каждую машину по два солдата и третий рядом с шофёром. Машин было около пятнадцати, насколько я смогла их сосчитать уже в пути по огням, потому что везли нас ночью. И никто не знал, куда нас везут. Ехали в темноте, на малой скорости. Подряд три машины. Через метров 100 – ещё три, и так далее. Часто останавливались, потому что, видимо, боялись «лесных братьев», которые могли напасть и помешать.
К утру привезли нас на станцию Ристи, под Таллином. Погрузили в «телячьи» вагоны с нарами и маленькими зарешёченными окнами под потолком. В вагон помещалось от 35 до 60 человек. С двух сторон были нары – нижние и верхние. В составе нашем было около шестидесяти вагонов. А сколько было этих составов – это сказала уже история: чтобы погрузить 20 000 человек из Эстонии, нужно было их очень много.
Везли нас около двух недель. Всю дорогу я сидела на верхних нарах и записывала названия станций чернильным карандашом на обороте открытки с фото нашего дома. Везли, я помню, через Уфу. В центре вагона стояла маленькая железная печка и ведро для туалета с дыркой в полу вагона. На больших станциях открывали двери, у которых стоял солдат, и можно было выйти за кипятком. В это время вокзал был окружён сплошным строем солдат.
Это было, кажется, в Свердловске. Нам с Маре дали эмалированное ведро с крышкой и двух солдат. И повели нас в какую-то столовую, довольно далеко, за супом. В этом городе было очень много путей на станции и на всех стояли такие же эшелоны или проходили. Так что нам удалось посчитать количество вагонов в составе – их было иногда по 60. Люди переговаривались через окошки и оказалось, что там не только эстонцы, но и латыши, и литовцы.
Наша конечная станция была Черепаново, Новосибирской области. Там нас выгрузили и три дня мы жили в школе. Спали на полу. Народу было очень много – целые эшелоны, а может быть и больше. Это трудно просто представить.
Потом за нами приехали большие тракторные сани, так как была весна – апрель, и снег таял и была ужасная распутица. Дорог почти не было, а местность была слегка холмистая. В низинах стояла вода, местами сухо, но скользко. Сани с вещами заходили в воду, вещи промокали. Ехали около ста километров до районного центра Сузун.
Нас поселили в городской столовой. Народу было уже меньше, потому что, видимо, людей развозили из Черепаново куда-то и в другие районы. Из колхозов стали приезжать председатели и забирать себе работников. Мы попали в колхоз, расположенный в шестнадцати километрах от Сузуна, в деревне Нижний Сузун, которая стояла на берегу реки. Нас довезли до места уже на других санях и стали размещать по домам. Кого – к хозяевам, кого-то – в пустующие дома. Всего в колхозе поселили 28 депортированных эстонцев. Председатели колхозов возмущались: зачем столько детей – им нужны работники!
Жизнь в сибирской деревне
В 20-е годы раскулаченные местные жители тоже были выселены. Их раскулачивали по тем признакам – у кого 5-стенный дом, то есть две комнаты, вот тех и высылали. Раскулачили – и дома остались пустые. Некоторые дома были уже в плохом состоянии. Нам достался такой дом.
Одна комната была без пола – в ней жить было невозможно. Нам дали половину этого дома – примерно 15 квадратных метров. В углу – огромная русская печка, наверху полати, вкруг комнаты приделаны лавки и столик. Мы не знали, что так – во всех домах. Мы думали, что это пекарня, потому что такая печка большая! А мы такие печи русские никогда не видели. Там ещё был чугунок и деревянная лопата. Мы тоже не представляли, для чего это всё.
Бани в деревне топились по-чёрному. То есть без трубы, дым весь внутри. Пока топится очаг из глины, сверху на какой-то железяке куча камней. На них ведро с водой. Как только камни нагрелись и огонь перегорал, закрывали дверь. Было тепло, но все стены чёрные от сажи – не дотронуться. Потому так и называется – баня по-чёрному. Баня сложена из брёвен и с маленьким окошком.
Приходили какие-то соседи, учили нас, как топить печку, что дым идёт не назад, а вперёд, что там можно что-то испечь. Ну, каким-то образом научились. Все эстонцы, кто попал в такие пустующие дома, так же, как и мы думали, что это бывшие пекарни. Нам дали доски и отец сделал для нас нары на всю длину комнаты с правой стороны. С левой – была печка, на которой тоже можно было спать, и на полатях. И вот на этих нарах мы спали. И с нами была ещё одна знакомая из Вяндра – жена друга нашего отца, с мальчиком около 10 лет.
Читать дальше