«Чего останавливался? – напрягаясь и зачем-то даже поднимаясь на цыпочки, всматривалась ему вслед жена. – Сомнения, видать, гложут, ещё поуговаривать хочется. Не уговори-и-ит! Не да-а-амся! Уж рубить, так рубить. С плеча. Чтоб разом, чтоб обратков не было ни ей, ни ему и чтоб нам всем – перехворали и – из сердца вон».
Серыми холодцеватыми буграми тумана накатывалось на Переяславку утро. Не сегодня завтра – лето, но природа, как в предзимье, тяжела, неуклюжа, затаённа. Кто знает, может и снег нагрянуть. А вот заморозкам непременно случиться: всегда они в самом начале лета хозяйничают на утренних зорях, подмораживая нежные побеги. В сердце у Полины Лукиничны стало ныть, что-то, как жилы, тянуть, тянуть, вроде даже вымогать наружу, чтобы, казалось, если уж обнажать, так обнажать до мяса, до костей. В груди сгущалась тягость – и вот-вот, сдавалось, ноги подломятся. Как для избавления, вглядывалась женщина в туман, чтобы увидеть Ангару, свою красавицу реку, свою любимицу. Может, от неё придёт какой-нибудь спасительный зов, намёк, отсветом ли, всплеском ли. Но не видно реки. Ни реки, ни неба, ни окрестностей переяславских родных и дивных – ничего отчётливо и явственно не видно, кроме изгибистой, изрубленной ухабами дороги до сворота в потёмки проулка да ближайших, исчернённых ненастьями и временем заплотов из горбыля. «Ох, грехи наши, грехи непосильные», – поплелась Полина Лукинична в избу, держась за мучительницу свою вечную – поясницу. Кузьму скоро уже пора будить: в школу мальчонку собирать, кормить, расчёсывать гребнем его непокорливые кудлы, растущие – посмеивались повсюду – «растопыркой», а потому и дразнили его Кузей Растопыркиным. Начинаются нескончаемые домашние хлопоты, в которых забыться бы, а то и спутать бы своё сердце. Ах! спутать бы, не натворить делов.
И весь день подступали, подкрадывались к Полине Лукиничне сомнения, всевозможные неспокойные мысли. Они хотя и мягчили сердце, но хватко и жёстко, на разрыв пытали его.
Однако крепкий и упористый её норов мало-помалу осилил-таки колебания: не стала она дожидаться мужних увещеваний в нелёгких разговорах, боясь вовсе расслабнуть, а потом конечно же отступить, столковавшись со своей совестью и разумом. Порешила: махом ныне же, лучше сегодняшним вечером, порубить окаянные узлы судьбы. Примет грех на душу, но и тем самым освободит для сына дорогу в счастливую, благополучную жизнь. Он умный – он поймёт свою мать, непременно поймёт, родненький, и поступит благоразумно.
После помывок часа два до самого поздна Полина Лукинична простояла у заплота вечерней школы, подстораживая Екатерину Паскову.
– Ты чего же, гадюка, моему сыну жизнь увечишь? – обрушилась с ходу, из потёмок хищно надвинувшись на оторопевшую девушку. – Не допуш-шу! Убью себя, а не допуш-шу, чтоб ты его женой стала! Како тако счастье ему принесёшь, пустопорожняя-то? Смерти моей хочешь, гадина? Получишь! А как опосле жить будешь, людям в глаза зыркать, с моим сыном миловаться?
Снова рядом с Екатериной дохнуло мраком ямы – «Убью себя», «Смерти моей хочешь». Воздух, почудилось ей, вокруг загустел, сплотнился, как, возможно, земля в засыпаемой могиле. Даже дышать стало трудно, а перед глазами – черно. Сорваться, убежать бы. Ничего не слышать и не видеть. Как жестоки люди, как жестоки! Но плотен воздух, а в лёгкие уже точно бы земли набилось – невозможно стронуться с места, невидимый, но чуемый гнёт одолел и душу и тело.
– Полина… Лукинична… Полина… Лукинична… – едва выговорила она онемевшими губами и вдруг пошатнулась, поосела враз. Успела ухватиться за доску забора, но всё равно не смогла удержаться на ногах – привалилась коленями к земле.
Она не потеряла сознание, ей не стало дурно как барышням в старых романах, но она действительно не смогла устоять на ногах. Не словами ударяли её, а чем попадя, и били так, чтобы наверняка повергнуть, а то и – убить. Хочет подняться, однако уже и руки подламываются, пальцы слабеют. Всю тянет книзу, и упавшая на землю коса – вроде верёвка с грузом.
Не стала Екатерина сопротивляться – притиснулась к забору: что ж, унижение так унижение, смерть так смерть.
– Ты чего, ты чего, дева? – принаклонилась к ней Полина Лукинична. – Эй, жива ли?
– Ага.
– Пала, точно обухом по голове тебе вдарили.
Морщась от ломи в спине, помогла Екатерине подняться, под локоть довела до лавки. Присели с краешку, молчат. Со стороны можно подумать, что обе – старушки: поджались, присгорбились, глазами зацепляются за землю под ногами. Мимо – парни и девушки, шумно и весело расходятся с занятий. По-ребячьи толкаются, минуя узкую калитку, хохочут. Где-то растянули залихватски гармонь, и девичье многоголосье задорно и кокетливо стало вить венок из слов:
Читать дальше


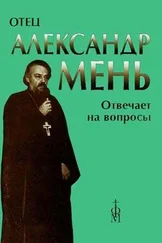
![Александр Донских - Яблоневый сад [litres]](/books/401226/aleksandr-donskih-yablonevyj-sad-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)



