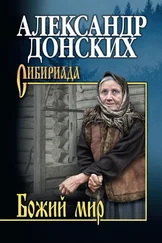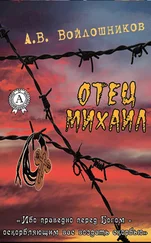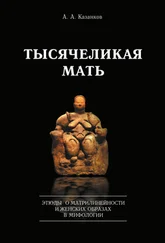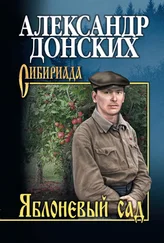– Никому не верим! – упрямствовал до самого выдворения белочехов и падения армий Колчака осторожный, в большинстве своём зажиточный сибирский крестьянин, таёжник промысловик.
А молоденький Илья Ветров – как немало и другого люда, преимущественно рабочего, городского, – своевольно, наперекор родительской воле ещё до революции устроился на железную дорогу и сошёлся там с социалистами. Напоился иным духом – духом противления и нетерпения: нынешнюю – царскую, «кровавую» – власть невзлюбил, от церкви отшатнулся. Когда вместе с идейными товарищами уходил в тайгу, чтобы влиться в партизанский отряд, отец, Иван Кузьмич, размахивая кулаком, отчаянно прокричал ему вдогон:
– Проклинаю тебя, иудово племя!
Сын не обернулся, не устрашился.
Однако судьбу его развернуло и перетрясло так, что едва живым остался. Через несколько недель Илью, охваченного жаром, перебинтованного и, похоже, умирающего, приволокли, измаявшись с этой неимоверно тяжёлой ношей, в дом отца на носилках: осколками шального каппелевского снаряда парню отхватило левую руку по плечо, к тому же посекло рёбра, но внутренних органов и лица, на диво, не затронуло. Отец хотя и попыжился, поугрюмился, даже раскричался на незваных гостей, «слуг Антихриста», однако супротивного сына всё же не отверг. Семья выходила его.
Вскоре советская власть одолела и внешних и внутренних своих врагов, утвердилась на немеряных сибирских привольях. Начиналась какая-то новая, необыкновенная, манящая жизнь. Илье Ветрову хотелось влиться в неё, вершить большие дела, однако без руки человек, понял он, – как птица без крыла: душа хотела полёта, но взлететь по жизни как следует он не мог, только что и оставалось хлопать попусту о землю в безнадежной попытке взмыть к выси. Он долго и мучительно не смирялся со своей однорукой участью, угрюмился, чуждался односельчан. Инвалид он и есть инвалид, калека – ещё беспощаднее подворачивалось слово – он и есть калека, – открывал молоденький, самолюбивый Илья для себя суровую, беспощадную правду человеческого общежития. Дюжему, неуёмному, любившему жизнь, жить и работать, однако, приходилось в полсилы, вечно быть у кого-нибудь на подхвате, ходить вроде как в немощных, если не сказать, сирых. С людьми ему, гордому, умному, порывистому, бывало порой невыносимо неуютно, тяжело; злился, и нередко несправедливо, по пустяку.
Но замечал с возрастом и опытом: годы, оказывается, могут лечить – душу лечить. С появлением колхоза, потихоньку пристал к лошадям – животное не обидит, не посмотрит снисходительно, с жалостью. Наловчился запрягать одной рукой. Даже подковывал, озадачивая и дивя людей. Задать овса или подбросить соломы и сена – и вовсе просто было. Поднаторел и в починке упряжи. Веселее становился, общительнее. Выбился в начальники. Но главное, жена ему хорошая досталась, Поля Ванина, крепкая – под него – статью, природно строгая с людьми, но ласковая и учтивая с супругом. Она тянула дом, немаленькое хозяйство со скотиной. Порядок во всём был. Родила ему троих сыновей. «Ай, молодчинка, Поля-то Ветрова!» – говаривали селяне. Даже сама раскалывала чурки, хотя Илья и тут набил, как говорится, руку. В этих своих каждодневных трудах Поля и сорвала спину, надсадилась, и теперь мучилась, порой не имея возможности и ведро с водой поднять. Лечилась, однако не помогало как надо бы. Хорошо, сыновья подросли, рано сделались помощниками. Илья поругивал жену, если она ухищрялась опередить его в какой-нибудь тяжёлой мужичьей работе. Поля стала действовать тайком, украдкой, пока он в отлучке на конюшне или ещё где-нибудь. Он замечал и понимал: жалеет. Но если заподозрил бы, что жалеет, как другие люди, то есть как калеку, немощного, мог бы, вспылив, и нагрубить. И в первые годы их супружества так и случилось несколько раз. Но скоро понял – её жалость, если таковая вообще была, тонула в её беспредельной любви к нему.
Однажды сказал жене:
– Ты, Поленька, моё второе крыло.
Она, стыдливая к похвалам и сыздетства скуповатая на открытое проявление своих чувств, притворилась, что не поняла:
– Куриное, ли чё ли?
А у самой, поспешно отвернувшейся лицом, колко вздрогнуло в глазах, будто внезапным ветром набросило снежинки.
«Ах, Афанасий, ах, Афанасий! – мысленно обращалась Полина Лукинична к сыну, вспоминая у калитки скорби и отрады былого. – Так же, как твой отец когда-то, натворишь делов, а потом попробуй-ка полететь с переломанными крыльями. Пошто тебе, родненький, пустопорожнее счастье? Найди другую девушку, здоровую да родящую, ведь любая бросится к тебе. Катюшка, чего уж мне наговаривать напраслину, конечно же красавица, умница, но дитя, даже самого замухрышненького, от неё, сынок, не дождёшься. Что сделаешь, коли так судьбинушка распорядилась. Смирись! Богу одному ведомо, почему содеялось, что содеялось. Он ведёт нас по жизни, наказывает и жалеет, отнимает и дарует. Скажу напрямки: оба вы повинные, оба наворотили уже сполна, но я денно и нощно буду замаливать твой грех, а Любаше, ейной матери, ясное дело, молиться за дочку свою. Авось обойдётся, авось судьбина твоя выправится. Авось и Катюшку Господь не оставит своими милостями: глядишь, найдёт себе паренька, со временем возьмут они сиротку на воспитание. Прóпасть, сколько ныне обездоленных детишек. Али как-нибудь ещё дела их образуются и уладятся. Господь, известно, всемилостив».
Читать дальше
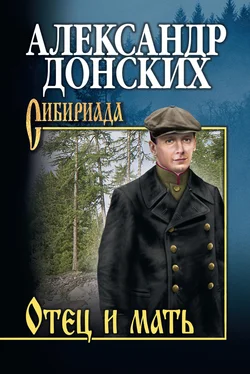

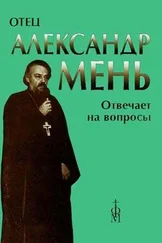
![Александр Донских - Яблоневый сад [litres]](/books/401226/aleksandr-donskih-yablonevyj-sad-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)