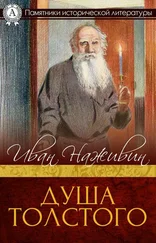Было воскресенье. Погода стояла на удивление: солнечно, тихо и как-то весело. А эти вечера золотые, задумчивые, когда и без беса души человеческие играют не наиграются? Как ни звони там свещегас к вечерням, народ в церковь колом не загонишь – сидят над рекой, в синие дали поглядывают да песенки про себя напевают. И летают их души над землей нарядной, ровно вот касатки быстрокрылые… У камня окаянного пестрым рядком молодежь сидела и, глядя на реку, песню веселую пела:
Как за гортницей, за повалушею
Не в гусли играют, не в свирели говорят:
Говорят мои подруженьки на игрища идти…
А меня ли, малодешеньку, свекровь не пускает,
Заставляет свекор-батюшка гумно чистить.
Гумно чистить, метлой мести…
Уж я в сердце взойду и метлу изломлю, —
веселее зачастил хор, и какая-то красавица вылетела поперед всех и закружилась в пляске бешеной:
И метлу изломлю, и гумно истопчу,
А сама ли, молодешенька, на игрища пойду:
Наскачуся, натяшуся, наиграюсь молода!..
Отец Упирь налился огнем: все это прямо на смех ему, отцу духовному, творят невегласы. Это – неуважение к сану его… Не угодно ли: под самыми окнами!.. Но он помнил рожи, вымазанные сажей, – главное, опять владыка выговаривать будет, а то и епитимью какую загнет! – и, бессильный сделать что-нибудь против невегласов, метался по крохотной, заставленной темными образами горенке своей, как тот бурый медведь в клетке, которого он видел недавно во дворе великого князя перед травлей…
И вспомнился ему вдруг недавний престол у матушки Боголюбивой, когда и мнихи, и гости их – «ихже не бе мощи и счести» – перепились преизлиха зело. Да и сам он так нахлебался, что едва потом своего Миколу Мокрого отыскал… Да и разве одно Боголюбово: «в монастырях часто пиры творят, созывают мужи вокупи и жены и во тех пирах друг друга преуспевают, кто лучший сотворит пир. Сия ревность не по Боге…» Прав Даниил Заточник, иже о чернецах глаголет: «Мнози отшедше мира сего возвращаются аки псы на своя блевотины, на мирское гонение и обиходят домы и села славных мира сего, яко пси легкосердии. Иди же братцы и пирове, ту чернцы и черницы и беззаконии, отческие имея на собе сан, а блядив норов, святительски имея на собе сан, а обычаем похабь…»
И Володимир, нежась в лучах солнца купальского, веселился кто во что горазд, а отец Упирь казнился в горенке своей превеликой казнию духовной. Нет, пусть там как хотят, а он будет вести свое дело, идти своей стезей!.. И отец Упирь присел к столику у оконца, в которое дышал заречный ветерок, и стал с натугой великой, до поту, сочинять свое обличение, которое скажет он невегласам, непутной пастве своей, в будущее воскресенье. Он долго думал, как начать, но, наконец, ухватился, и мысли его понеслись, как табун диких лошадей в степи бескрайной.
«…и в ту святую ночь мало не весь город возмятется и взбесится, – налаживал отец Упирь, потея, речь свою. – Встучит город сей и возгремят в нем люди… Стучат бубны, голосят сопели, гудят струны, женам и девам плескание и плясание, хребтом их виляние и ногам их скакание и топтание. Тут мужам и отрокам всякое прельщение и падение, – отец Упирь вспомнил, что делается в эту святую ночь по садам вишневым, и его опалило, – и женам незамужним беззаконное осквернение, девам растление… И возвращаясь домой на рассвете от того великого хлопотания, люди падают аки мертвии, а обавники-мужчины и женщины-чаровницы по лугам клязьминским и по болотам, в пути в дубравы ищут смертной травы и привета, чревоотравного зелия на пагубу человечеству и скотам, те же и дивии копают корения на потворение и на безумие мужам и все то творят с приговоры сатанинскими…»
И вдруг рвение его упало: да разве не гремел он об этом в церковке своей прошлым годом? Разве не осуждает церковь хлопотание сие вот уже века? Почитай, четыреста лет уже крестились, идолы, а все творят свое!.. Так что же делать? Почему власти духовные не примут мер решительных? Взять хоть гремячий ключ в Ярилином долу – заставил же он, Упирь, придавить духа поганьского святой часовенкой!.. Надо опять сходить к владыке… Да-да, знает он, что надоел пестрым властям настояниями своими, но пусть Господь посмотрит, кто скорее устанет: он ли обличать их, или они, нерадивцы, лениться?
Он решительно встал.
– Эй, мать! – крикнул он своим громовым голосом. – Давай мне иматий 15 15 Иматий (у священников) – длинный однобортный кафтан без воротника.
новый… Да и гуменце 16 16 Гуменце – выбритое место на макушке, тонзура.
погляди, не заросло ли…
Читать дальше
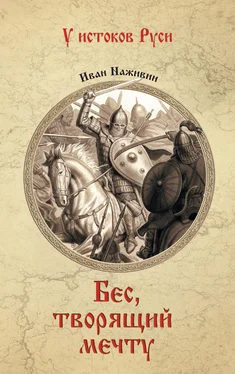
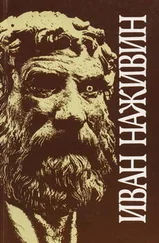
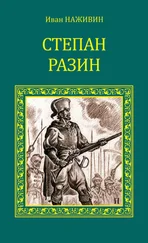
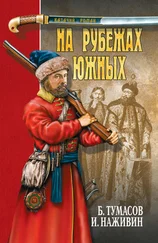
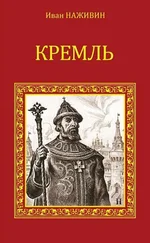
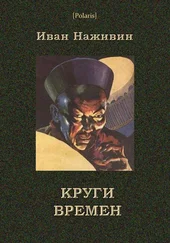


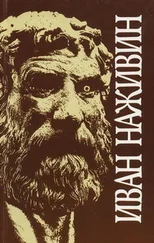
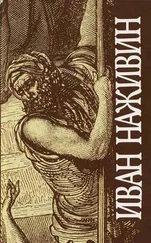

![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)