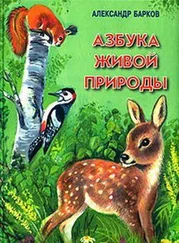Поснимал бы наше начальство, как пить дать, но не успел: тут его вскоре самого окоротили..
Рассказ Тимофея Изотиковича был прост, но цеплял, как это случалось почти всегда. И сразу же начался спор на извечную тему: кто же прав? Почему снова не идут реформы? «А вот если бы!..» – начал было Владиславлев, но осекся. Расхотелось ему спорить, к тому же пропустил четырехчасовую электричку, а ему не напоминали, поставили заново самовар, и он в какой-то момент, глядя на подсвеченные сбоку деревья с ослепительной июньской листвой, на божью коровку, что ползла деловито по краю оконной рамы, на деда Шапкина, неспешно объяснявшего Диме устройство пчелиных семей, решил, что всех знает давно, что нет и не будет никаких трупов, экспертиз, протоколов и дела об убийстве сторожа автобазы номер три семнадцатилетними подростками из-за овчинного полушубка…
Для всех поставили конфеты, варенье, а Тимофею Изотиковичу принесли отдельную сахарницу с кусковым рафинадом. Он колол на ладони крупные куски сахара ударом ножа, и в этом была странная приятность.
Владиславлеву захотелось попробовать, чтоб так же вот, без крошек, строго пополам, с одного удара, а потом еще пополам, и еще. А после взять пальцами маленький кусочек и с причмокиванием, как это делают дети, пить вприхлебку чай, щуриться от пронзивших оконные рамы солнечных лучей, вести неспешные разговоры и представлять, что здесь его родная семья. Выхватил из сахарницы бугристый кусок рафинада, понянчил в горсти, как бы примериваясь, но тут же передумал, опасаясь нарушить неловким движением мимолетное ощущение счастья.
Это походило на устоявшийся ритуал. Иногда после ужина Анна Малявина доставала потрепанную папку из толстой свиной кожи с медной застежкой и фасонистыми уголками, сработанную, что угадывалось без труда, в те времена, когда добротность, красота, пусть даже вычурная, отличали почти каждую вещь. Когда Анна торопливо завербовалась и уехала в уральское Заполярье, уверенная, что вернется через несколько лет, то ее вещи из коробки растащили, хуже того – разворовали, уцелели лишь папка с бумагами да кое-какие безделушки. Почему долгими зимними вечерами взялась читать отцову рукопись вслух, она объяснить не могла. Возникло это вместе с болезненным ощущением подступающего одиночества, потому что с Аркадием Цуканом, Ваниным отцом, распрощалась минувшей осенью, как ей казалось, навсегда. А еще таился в этих еженедельных читках налет романтической книжности: семья, камин, старинная рукопись, завывание вьюги.
Она дочитала до того места, когда два римских сенатора, Гай Кассий и Децим Брут, завернувшись в тоги плебеев, идут к дому Марка Брута окончательно склонить его на свою сторону, чтобы именно он, потомок легендарного Луция Брута-цареубийцы, возглавил заговор против Юлия Цезаря. Они в нерешительности застряли у стены, густо исчерченной объявлениями о предстоящих гладиаторских боях, собраниях в курии, ругательными надписями, среди которых выделялась свежая: «Трус, ты не достоин называться Брутом», – опасливо раздумывая, потому что не знали, как встретит их вчерашний соратник Помпея, а ныне городской претор, обласканный Цезарем, – Марк Юний Брут…
Анна умышленно прервала чтение на интересном месте, чтобы Ваня напомнил: «Мам, почитаем снова про римлян?..»
– Почитаем, если ты расчистишь снег во дворе и сходишь за хлебом, – тут же ответила Анна Георгиевна, заранее готовая ответить именно так. Знала, что Ваня без того все сделает, а сверх того принесет воды и дров на растопку – он сам лет с двенадцати потянулся к разной домашней работе, не тяготился ею и пусть неумело, но делал. Раиса Тишкова, ее дом стоял напротив, как-то укорила: подожди, он тебе попомнит, как младший мой. Все выговорит, что было и не было. Но Анна отмахнулась, она давно отвыкла загадывать наперед.
После обеда негаданно пришла мать – Евдокия Матвеевна, семидесятилетняя, с лицом темным, морщинистым, как печеное яблоко, но по стати и делам совсем не старуха. Поэтому странно видеть ее с лиловыми губами, немощную до того, что калоши с валенок не может стряхнуть, и Анна, готовая заранее к укоризне матери за беспорядок в дому, стала помогать ей раздеться, выспрашивая торопливо, как и что там, в Холопове, вперебивку со своим: «Да ты, мама, видно, простыла… Оставайся сегодня, не пропадет отец там».
Евдокия Матвеевна поотнекивалась, но вяло, больше из-за гордости: чувствовала, что езду в электричке, а потом путь от станции в гору ей не осилить. После ужина, ощущая навалившуюся слабость, неожиданно выговорила:
Читать дальше