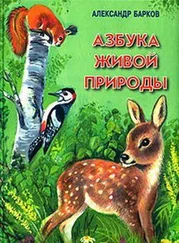Малявин собирался сделать покупки в дорогу, съездить в Авдон, в поместье, где теперь хозяйничал старый Михеич. Но князю трудно было отказать, да и лестно. Все-таки княжеский род, владеющий и поныне большими земельными угодьями в губернии. «Хотя, конечно…» – но не стал додумывать возникшее. Согласился.
Жил Малявин в небольшом спаренном номере в самом конце коридора на третьем этаже, с окнами, выходившими в тихий проулок, обсаженный липами. Липы зацветали в июне, чуть раньше, чуть позже, но цвели каждый год, и надо было лишь перегнуться через подоконник, чтобы нарвать пригоршню крылатых соцветий Что он и делал порой, потому что из всех медов Павел Тихонович – папа, которого ему недоставало и теперь, – всегда ставил на первое место липовый и по качеству, и по силе лечебной, что запало ему с раннего детства, как и сам этот запах неброский, слегка сладковатый.
Поглядывая через окно на аккуратные, словно подстриженные деревья, он был уверен, что заведет образцовую пасеку, тем паче близ Авдона массивы липняка. И думалось: странно, обиход русского простолюдина – ложки-миски, лапти, веревки, детские игрушки, кадушки и самое лучшее угощение за столом – все шло от липы, а воспевали березу и заламывали на венки березу. Что за этим – хозяйская рачительность, а отсюда запрет, некое табу?.. Или, наоборот, люди чурались практицизма, когда душа тянулась к песне?
Вещи уложены, увязаны, все проверено дважды, а до поезда еще почти два часа томительного ожидания, когда даже газета вываливается из рук и наплывают снова и снова будоражащие: «А вот приеду да скажу, а он ответит. А потом!.. Или вот встретят, а я им…» И так оно крутится, и рука невольно вновь тянется к кармашку для часов.
Малявин вышагивал по номеру, посматривая через окно в проулок, куда должен был подъехать извозчик. Ему не сиделось, он тяготился еще и оттого, что не сумел отказать Кугушеву, не отверг решительно его просьбу. Это не соотносилось с обычным страхом, боязнью, это было недовольство собой, близкое к раскаянию, что, как и шесть лет назад, когда попросили прочитать на студенческой сходке громким лекторским голосом воззвание, которое не составлял и не писал, он не сумел отказать.
Увесистый крутобокий баул, как портупеей перехлестнутый ремнями, стоял по-военному грозно у двери, напоминая о слабости, которую допустил, и почему-то не верилось, что в нем всего-навсего запрещенная литература, как разъяснил князь Кугушев, давая краткие наставления в насмешливо-ироничной манере: «Нет-нет, бомбу я туда не сунул, не опасайтесь… И человек вас непременно встретит в Москве, он сам зайдет в купе и скажет без всяких паролей просто и понятно, что я, мол, от Вячеслава Александровича… Не хмурьтесь, Георгий Павлович, все просто, как дважды два, уверяю вас».
– Давайте же обнимемся на прощание.
Обнялись, дружески распрощались, хотя буквально час назад, разгоряченные вином, спорили резко, непримиримо.
Такая непримиримость возникла у Малявина не сразу, это пришло постепенно.
Здесь, в российской глубинке, на стыке Европы с Азией, он долго пребывал в разладе с собой, ему мнилась неприязнь со стороны людей и даже, как вписал он на полях тетради: «Я кожей своей ощущаю усмешку Всевышнего». Случалось, когда пылил на тарантасе по Староказанскому тракту в город или объезжал крестьянские хозяйства по делам земства, или читал запрещенную, отчего и притягательную литературу, перед ним возникало, то исчезая, то смутно прорисовываясь вновь, огромное, как облако, усмешливое лицо. А потом, словно пробудившись от сна, Малявин вдруг понял, что вся эта теоретическая заумь социал-демократов хила, никчемна рядом с сермяжной российской правдой.
В той же агрономии, где навыки отшлифовывались веками, где на первый взгляд все так просто, циклично: земля, зерно, солнце, вода – он, не зная кислотности почвы, содержания гумуса, влаги, воздерживался от рекомендаций, если даже наседали настырно. А в политике каждый недоучившийся адвокат мнит себя Наполеоном, поучает, о крестьянстве слезы льет. Это его раздражало, понуждало ввязываться в полемику с однозначным: да уймитесь же вы!.. Потому что сам уже не идеализировал народ. Добывая пропитание службой в земстве, каждодневным трудом на опытном участке, в саду, углядел, как ему казалось, что совестливость, сострадание к ближнему и неискоренимый поиск идеала в земном или божественном присущи большинству людей, но находятся в зачаточном состоянии. Поэтому должно главенствовать нравственное начало, а экономика и политика – это лишь передаточные шестерни, колеса. В этом, твердо решил он, и есть важнейшее отличие этического социализма от всех прочих разработок государственного устройства России на демократической основе. Но произойдет это, безусловно, не скоро, это следующий виток в развитии человечества, на вхождение в который потребуется не меньше сотни лет, потому что одни пребывают в полускотском состоянии с единственным страстным желанием набить брюхо, другие на пороге ада создают кастовый бандитизм, чтоб подчинять и убивать себе подобных, третьи мечутся на перепутье, и лишь немногие возвысились до обретения Бога в душе своей.
Читать дальше