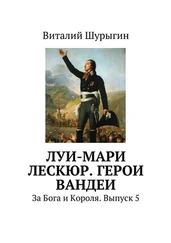Придётся всё-таки устроить триумфальный въезд. Так будет лучше. Царь отослал лишь несколько писем дяде и женщинам. Он не мог как следует сформулировать их, не мог придумать гладкие фразы, оканчивающиеся самой изящной из всех: «Бог персов не оставит нас своим попечением». Священная колесница украдена! Нисейские кони тоже!
А над водами Эгейского моря дул без перерыва всё тот же ветер, безусловно враждебный персам. Как же он опять задувал! Серые облака закрывали небо. Корабль раскачивало с борта на борт. Налегая на вёсла, гребцы стонали, жаловалось разрезавшее волны рулевое весло. Судно скрипело всеми досками своих бортов.
Ксеркс соскочил с кушетки и увидел шторм. Вездесущий осенний ветер жадными когтями цеплялся за снасти. На палубе жались друг к другу знатные персы, в том числе и несколько племянников царя. Кормчий вновь и вновь наваливался на кормило.
— Кормчий! — вскричал Ксеркс. — Мы в опасности?
— Да, базилевс.
— Тем не менее надежда на спасение, конечно же, не оставила нас? — раздражённо осведомился Царь Царей.
— У нас нет ни малейшей надежды, деспот, если не удастся облегчить этот перегруженный корабль.
— Перегруженный? Но я оставил почти весь мой багаж.
— Перегруженный людьми, базилевс.
Осенняя буря бушевала, как сам бог отмщения, толкая в борта судно, неспособное двигаться вперёд.
— В таком случае я повелеваю, — вскричал Ксеркс, — чтобы финикийские гребцы попрыгали за борт!
— Но кто же будет тогда грести, владыка? Твои персы не умеют грести так, как мы, финикийцы. Если мои гребцы попрыгают за борт, мы утонем вне всяких сомнений.
— Персы! — возопил Ксеркс. — Настало время доказать свою любовь к вашему царю! Жизнь моя в ваших руках.
Столпившиеся вместе, прижавшиеся друг к другу персы медлили в нерешительности. Старшие пинками выталкивали вперёд подчинённых. Потом все бросились к ногам Царя Царей. А поднявшись, принялись прыгать в море. За мелкой знатью последовали вельможи. Направо и налево спрыгивали персы с раскачивавшегося корабля. Напев гребцов превратился в погребальную молитву. Облегчённое судно поднялось над бушующими волами.
На следующее утро буря улеглась. Впрочем, ветер ещё хлестал эолийский берег, точнее, уже азиатский. Берег, спасительный для драгоценной царской жизни.
Ксеркс спустился на берег, наградив кормчего золотым венком, поскольку тот спас царскую жизнь.
А потом приказал отрубить ему голову, ибо сей кормчий был повинен в гибели сотни персов. В этом поступке не было никакой жестокости, лишь логичное истолкование царской воли.
После короткой остановки в Сардах Ксеркс возвратился в Сузы. Но возвращение царя было не таким, каким увидел его Эсхил, поэт-воин, окружённый стайкой муз, в ночь после морского сражения сидевший на фиолетовых скалах над аметистовым морем. Царь Царей вступил в Сузы вовсе не в впечатляющих рваных одеждах и не при опустевшем колчане. И вернулся он домой совсем не в одиночестве, как это сделал персонаж трагедии. Он пришёл домой, окружённый многочисленными племянниками, зятьями, шуринами и братьями, которые сумели сохранить себе жизнь. Царя не сопровождали Бессмертные, оставленные Мардонию, но Гидарн ехал возле Ксеркса, а многочисленная мидянская и персидская рать следовала за ним и его неизменно великолепной свитой. Ксеркс восседал на коне с самым надменным видом, являя пример истинного высокомерия. Собравшиеся на улицах толпы молча взирали на царский въезд. Ксерксу всё-таки хватило такта не представлять своё шествие победным триумфом.
Дорога от ворот великого города до ворот дворца — тоже города, только поменьше, — была недлинной. Войско немедленно разошлось по казармам — на зимние квартиры. Дул холодный ветер, прихватывавший с собой снежинки с просторов Гирканского моря.
Очутившись во дворце, Ксеркс уединился. С дядюшкой Артабаном он держался надменно и по большей части молчал, ибо старик оказался всё-таки прав относительно войны с Грецией. Мать свою Атоссу Царь Царей принял с тем уважением, которого требовал дворцовый этикет в отношении столь почтенной особы. А потом он заявил, что устал. Поскольку одежды его вовсе не были растерзаны, в отличие от того Ксеркса, которого изобразил в своей трагедии Эсхил, Аместриде незачем было шить ему новое платье, каковой поступок приписал ей тот же сочинитель. Тем не менее царь позволил своей жене на мгновение заглянуть к нему с законченной мантией.
Читать дальше


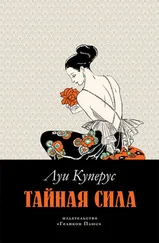


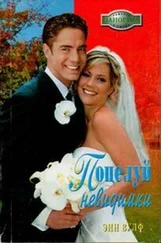


![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)