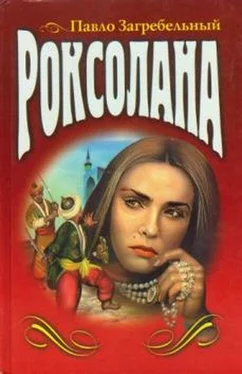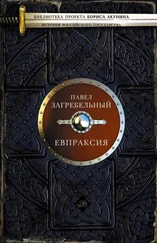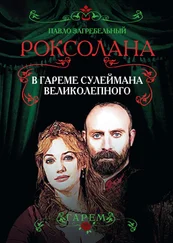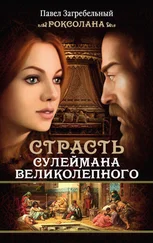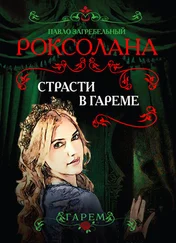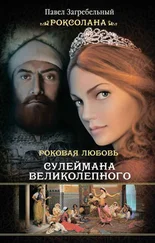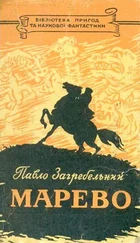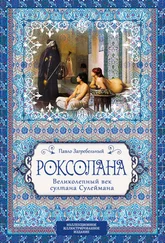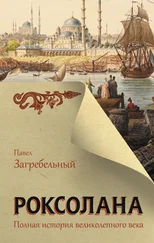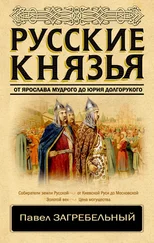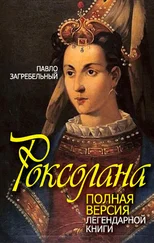Мулла читал над нею Коран, а она еще жила, еще вспомнился псалом из детства, и хотя не могла промолвить ни слова, вспоминала безмолвно: «Ибо там захотели от нас слова песни и радости те, которые в невалю нас брали, издевались над нами. Как же нам на чужой земле песни петь господние?»
Умирала, знала, что уже конец без возврата, но воскресла, ожила в стоне, в крике, в последнем отчаянии:
— Мама, спаси свое дитя!
Она умерла не от времени, а от страданий.
Султан велел похоронить Роксолану возле михраба мечети Сулеймание и над ее могилой соорудил роскошную гробницу. Каменное восьмигранное сооружение с заостренным куполом, которое опирается на колонну из белого мрамора и порфира. За ореховой массивной балюстрадой посредине мавзолея стоит одинокая каменная гробница, покрытая белой дорогой шалью. Стены выложены художественными фаянсами. Чистые колеры — синий, красный гранат, бирюзовый, зеленый, цветы и листья на гибких стеблях. Стебли черные, как отчаяние, а вверху, под куполом, алебастровые розеты, белые, как безграничность одиночества.
Только росы и дожди будут находить дорогу к похороненной под исламским камнем этой удивительной, тяжко одинокой и после смерти женщине, которая не затерялась и не затеряется даже в век титанов.
Киев — Стамбул 1978–1979
УТЕШЕНИЕ ИСТОРИЕЙ
Авторское послесловие
Этот роман не мог дальше продолжаться. Он исчерпался со смертью главной героини. О чем этот роман? О времени, страхе и смерти? Вполне возможно, однако не так общо, не так абстрактно, потому что автор не философ и даже не историк, а только литератор. Правда, многие авторы исторических романов часто похваляются своими открытиями, которые они якобы сделали разгадкой документов, найденных уже после их описания в романах, нахождением звеньев, которых недоставало для цельности той или иной теории, проникновением в то, что лежало перед человечеством за семью замками и печатями.
Автор этой книги далек от подобных амбиций. Писатель не ученый. Мы должны откровенно признать, что наука дает литературе неизмеримо больше, чем литература может дать науке.
Писателю помогает в работе все: документы, легенды, хроники, случайные записи, исследования, вещи, даже неосуществленные замыслы. А чем может услужить историку сам писатель? Наблюдениями и исследованиями непередаваемости человеческого сердца, человеческих чувств и страстей? Но история далека от страстей, она лишена сердца, ей чужды чувства, она должна «добру и злу внимать равнодушно», ибо над нею царит безраздельно суровая диктатура истины.
Единственное, что может писатель, — это создать для историка, как и для всех других людей, то или иное настроение, но и это, как мне кажется, не так уж и мало. Работая над историческим романом, ты выхватываешь из мрака забвения отдельные слова, жесты, черты лица, фигуры, образы людей или только их тени, но и этого уже так много в нашем упорном и безнадежном споре с вечностью.
Человеческая память входит в исторические романы таким же непременным орудием, как элемент познания в произведение о современности. История в привычном для нас понимании стала известной древним грекам в творениях милетских ученых Анаксимена и Анаксимандра. Осмысливать историю, прошлое, человек стал только тогда, когда осознал себя существом общественным, то есть научился судить о том, что произойдет в будущем.
Вопрос о соотношении прошлого и современного не только актуален в идеологических битвах дня современного — он имеет огромное практическое значение для тех способов и масштабов, при помощи которых опыт и культура эпох прошлых помогают нам творить современную жизнь. Маркс замечает по этому поводу:
«Так называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе» (К. Маркс к Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 732). Ленин прямо говорил: «…только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 304).
Могут спросить: а почему автор избрал именно XVI столетие и не кого-нибудь из титанов Возрождения, а слабую женщину? В самом деле: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Эразм Роттердамский, Лютер, Торквемада, Карл V, Иван Грозный, Сулейман Великолепный — сколько имен, и каких! И внезапно прорывается сквозь их чашу имя женское, поднимается на борьбу с самой Историей, одерживает даже некоторые победы, завоевывает славу, но в дальнейшем становится добычей легенды, мифа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу