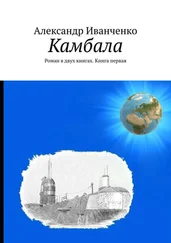– А о Корнелии Сулле, – прибавил госпиталий, – то же самое думают в одном греческом городке, откуда он вывез статую Паллады: храм с этого времени был заброшен, поскольку лишился божества, Сулла же умер позорной смертью, заеденный вшами. Но куда больнее были удары, наносимые кому попало статуями, когда мирская власть разделяла их обиды. Тиберий не осудил мима Кассия, продавшего вместе с садом статую Августа, сказав, что его отец стал богом не для того, чтобы истреблять сограждан; но Домициан приговорил к смерти женщину, раздевшуюся перед его статуей: зато, когда сам он умер, его статуи валил и ломал всякий, кто мог дотянуться, вымещая на них все свои страхи. И приязнь, и ненависть народа оказывались равно опасны изваяниям, так что счастливой жизнью для них было бы ничем не возмущаемое пренебрежение. Римляне рукоплескали статуе Нептуна, когда хотели выказать свою любовь к Сексту Помпею, а Август, когда буря разорила его флот, удалил Нептуна из процессии, прибавив, что и без его милостей добьется своего. Готы требовали казнить вдову Боэция за то, что она подкупала войсковых начальников ради уничтожения статуй Теодориха, отмщая ему за убийство своего отца и мужа. Гелиогабал, подыскивая жену богу Солнца, сперва перенес к себе в спальню статую Паллады, которую не тревожили с самого ее прибытия из Трои, а потом объявил, что его богу не по нраву вооруженная девственница, и послал в Ливию за статуей Урании, или Луны, велев ливийцам собрать на достойное приданое, а когда Уранию доставили, выдал ее за своего бога и велел всем в Италии праздновать и всенародно, и частным образом, затем что брак богов – вещь крайне редкая. А вот пример удивительной кротости божества, из чьего лона вышел род Цезарей: Август, в ту пору, как еще не стал божеством садов и предлогом казней, обедал однажды в обществе одного старого рыцаря из Болоньи и, зная, что его сотрапезник ходил с Антонием на парфян, когда был разорен тамошний храм Венеры и расхищена ее золотая статуя, спросил, правда ли, что тот, кто первым поднял руку на изваяние, испустил дух, ослепший и разбитый во всех членах, а рыцарь отвечал, что он, Август, сейчас трапезует от ее ноги и что он, его гостеприимец, и есть тот самый человек, а все его имение – от этой статуи. Куда жесточе обошлась Венера с одним римским юношей, хотя он ничем ее не оскорбил, но лишь выказал простительное легкомыслие.
– Как это вышло? – спросил Фортунат.
– Боюсь, эта история не соответствует святости места, где мы находимся, – сказал госпиталий, – но так и быть, расскажу, соблюдая краткость.
– В ту пору, когда Римом правили преемники блаженного папы Сильвестра, один юноша из сенаторского рода, наследник больших богатств, созвал друзей на свадебный пир. По нраву и воспитанию склонный жалеть скорее о недостаточном блеске, чем о чрезмерных издержках, он постарался, чтобы никто не вспоминал дурно об этом дне. Каждая перемена блюд стоила много марок, вино в резных бокалах умело подружить одно блюдо с другим, а соседей между собою; одним любезна была беседа, другим – пение и игра на цитре, а тот, кому всего было мало, пил из кубка, пока всего ему не покажется вдвое. Лукулл и Апиций, будь они там, признались бы, что не видали столь пышной свадьбы.
Тут брат Петр перебил его:
– Несправедливо, брат Гвидо, что ты превозносишь римские пиры, словно других таких нет на свете; а между тем когда Аларих, сотрясавший всю Италию, скончал свои дни, а готы сделали королем Атаульфа, тот, чтобы придать прочности своему положению, женился на Галле Плацидии, дочери императора Феодосия, и справил свадьбу не где-нибудь, а у нас в Имоле, которая тогда еще звалась по-старому, Корнелиевым форумом. Супруги восседали в палатах, украшенных по-римски; Атаульф подарил невесте пятьдесят юношей в шелковых одеждах, из коих каждый нес в руках два больших блюда, одно полное золотом, другое драгоценными камнями; потом сказаны были эпиталамии, один изящнее другого, и пиршество совершалось к великой радости готов и римлян.
– Помилосердствуй, брат Петр! – отвечал госпиталий. – Сперва ты выводишь против меня не кого-нибудь, а самого Алариха; я уже оглядываюсь, чем бы от него отбиваться, как он умирает, не успев понять, зачем попал в твою речь: впрочем, с ним это не раз случалось, он и к Риму пришел не по своей воле, но из-за понуканий, которые каждый день слышал неведомо откуда, так что для него это, можно сказать, дело привычное. Потом ты хочешь, чтобы я вместо своего пира описывал какой-то другой, затем что там кормили лучше, и удивляешься, почему я не спешу приделать своей статуе чужую голову. Давай так: я доскажу о своей свадьбе, как умею, и даже лишней краюхи хлеба не приложу, чтобы не казалось, что я хочу сделать подарок невесте, а потом ты о своей – были ли там бобы в молоке, рис с миндалем и сладкие пироги – и можешь даже, как помянутый Азеллий Сабин, заставить каждое блюдо говорить от своего лица, чтобы больсенские угри рассказали, какая для них честь присутствовать на этой свадьбе, особенно с сыром и яйцами; да изобрази их так, чтобы сам Луций Красс, который отслужил панихиду по любимой мурене, когда она сдохла у него в пруду, устыдился своей привязанности…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
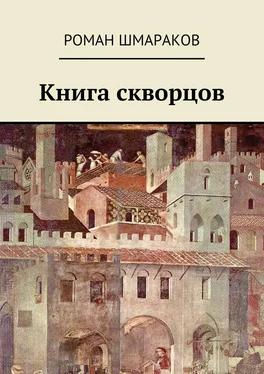

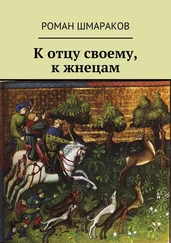

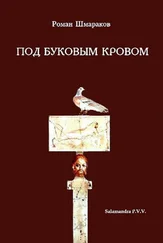
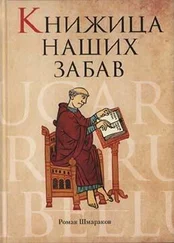
![Роман Шмараков - Автопортрет с устрицей в кармане [litres]](/books/398251/roman-shmarakov-avtoportret-s-ustricej-v-karmane-l-thumb.webp)