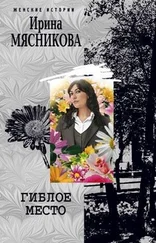Редактуры как таковой не было, если не считать одной тонюсенькой брошюры примерно в полгода. Речь в этих четырех-шестистраничных изданьицах шла о подготовке рабочих кадров на предприятиях, подведомственных министерству, к которому принадлежал УМК. Брошюрки были почти такими же одинаковыми, как командировочные отчеты. Шуре за полгода доставались не одна, как требовала бы справедливость, а две брошюры, что, разумеется, было беспардонной эксплуатацией. В роли эксплуататора выступал анькин муж, он же был и благодетелем, устроившим ее сюда. Сам он причитающихся ему брошюрок редактировать не желал. Из принципа. Михаил Байко был ненавистником «совдепии» и отказывался на нее «ишачить». Он разглагольствовал об этом гулким внушительным басом, нимало не стесняясь, и, к чести формально подчиненной ему редакторской группы, никто не настучал.
Не считая Шуры, редакторов было шестеро, и она мысленно сразу разделила их на пары: Первый поэт и Второй поэт, Первый журналист и Второй журналист, Первая дама и Вторая… впрочем, нет: одна чересчур помята для дамы, другая не в меру вертлява. По размышлении наша героиня нарекла их Дуэньей и Субреткой.
Публика здесь собралась не без претензий. Только каприз судьбы мог загнать такую компанию в этот тихий закут, столь же безмятежный, сколь бесперспективный. Вопиюще, то бишь веселяще, утешительно разношерстная, она отсиживалась здесь, не ссорясь, будто разные звери на плывущей невесть куда льдине.
О блаженство: оказалось, можно даже читать! Некому, поймав тебя на этом запретном занятии, железным голосом изречь каноническую фразу: «Не забывайте, вы на работе!» Здесь директор, и тот был чудаком. Как всякое начальство, не чуждый обыкновения неожиданно входить и что-нибудь брякать, этот кряжистый мужик с толстой короткой шеей и лукавыми глазками вырастал на пороге и, нарочито окая, с солидной расстановкой произносил, к примеру:
– Не п О нимаю, как можн О лечь в п О стель с баб О й, к О т О рая – дура!
Он был неистощим на подобные сентенции, но эта, первая, едва не прикончила Шуру Гирник на месте. Другие-то были подготовлены, а она, со стуком уронив на пол «Иностранную литературу», буквально задохнулась от хохота. Директор был ерник, иные считали, что и хам, но Шуре он понравился. Ей-то такой хитрющий дедок хамить не станет. Сообразит. А нет – пусть пеняет на себя, «к О т О рый дурак».
Увы, насладиться умозаключениями директора-философа Гирник не успела. Вскоре его сняли, якобы «за финансовые злоупотребления». Чем можно было злоупотребить в УМК, никто толком не понял, но директорское место занял Второй поэт, как единственный на весь коллектив член партии. При нем читать стало уже не так безопасно. Раз и навсегда перепуганный выволочкой, которую получил однажды в Литинституте за стишок про то, как мы ужасно не бережем родную природу, Второй поэт боялся всего. Увидев на шурином столе раскрытую книгу, он принимался страдальчески скрипеть:
– Александра Николаевна, ну, я же просил… Вдруг кто зайдет из министерства… Отвечать-то не вам, мне, как вы не поймете?.. Даже странно… нет, вы не обижайтесь, просто странно…
Из министерства к ним никто не заходил. Никогда. Ни разу. Но Второй поэт понимал: в принципе такую вероятность исключить невозможно. С него было довольно сего сознанья.
Почему-то игра в шашки считалась куда менее криминальной забавой, нежели чтение, и пленники УМК чрезвычайно в ней преуспевали.
– Вы скоро выйдете в гроссмейстеры, Сашенька, – великодушно утешал Гирник Первый журналист и настоящий гроссмейстер группы. – Мне все труднее обыгрывать вас. Честное слово, вы чуть-чуть меня не обставили!
Первому журналисту подкатывало под сорок. Это был добродушный, недалекого, но бойкого ума человек, проводящий свои дни в страхе, куда более основательном, нежели тот, что томил Второго поэта. Еще в отроческие годы получив по затылку битой от городков, он с тех пор жил под угрозой слепоты. Зрение висело на волоске, и когда болезнь вдруг обострилась, он махнул рукой на свою слишком энергоемкую профессию, залег на дно.
В сущности, то же произошло и со Вторым журналистом, хотя он был гораздо моложе. Высокий, смуглый, похожий на грузина, тот выглядел здоровяком, но тяжелейшее нервное расстройство подкосило его карьеру в самом начале. Свою вежливую, но безрадостную разговорчивость он объяснял медицинским предписанием:
– Я не такое трепло, каким кажусь. Но доктор сказал: чем больше говоришь, тем для тебя лучше. Ничего в себе не держи – какая мысль или чувство ни появится, высказывай сразу! Не думай, кстати ли придется, интересно ли другим – в твоем положении о себе заботиться надо!
Читать дальше