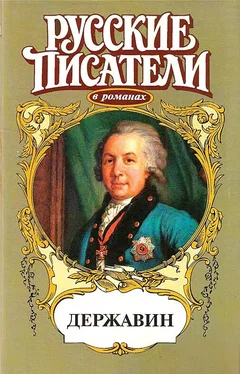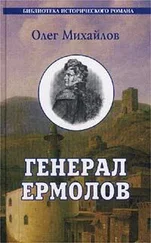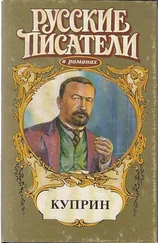Крики, и лай, и грохот, и ржанье, и щёлканье бичей на дороге вывели поручика из глубокой задумчивости.
Навстречу ему приближался роскошный поезд: пристяжные соловые лошади с широкими проточинами и гривами по колено, коренные, могучие, как львы; кучера в пудре на облуках остеклённых карет, гусары и егеря на запятках; гончие и борзые, прыгающие на сворах; широкие сани с полостями из тигровых шкур, форейторы в треуголках, с косами. Его сиятельство граф Панин выехал на охоту.
Поскольку Державин поверх мундира был в простом тулупе и не хотел в сём беспорядке показываться вельможе, то съехал с дороги и пропустил поезд и свиту.
Генерал Голицын был до крайности удивлён смелости его появления:
— Как? Вы здесь? Зачем?
— Еду по предписанию Потёмкина в Казань, но рассудил засвидетельствовать своё почтение главнокомандующему.
Красивое, с точёными чертами лицо Голицына побледнело:
— Да знаете ли вы, что граф недели с две публично за столом говорил, что дожидается повеления от государыни повесить вас вместе с Пугачёвым!
От такой несправедливой журьбы у Державина дрогнули подколенки, но он отрывисто возразил:
— Ежели я виноват, то от царского гнева нигде уйти не можно.
— Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к Панину являться. Поезжайте-ка в Казань к Потёмкину и ищите его покровительства.
— Нет, я хочу видеть графа, — повторил гвардии поручик.
Пришло известие, что Панин вернулся с охоты, и Державин отправился в главную квартиру. На крыльце не счесть пудреных голов, красных камзолов, гусарских, казачьих и польских платьев. Поручик просил доложить о себе. Встретивший его вельможа смотрел сентябрём.
— Видел ли ты Пугачёва? — внезапно с гордостию спросил он у Державина.
— Видел, ваше сиятельство! На коне под Петровском, — с почтением ответствовал гвардии поручик.
Панин позвал Михельсона и повелел привести Пугачёва. Державин понял, что граф тем самым хотел как бы укорить его за то, что он со всеми своими усилиями и ревностию не поймал самозванца.
Через несколько минут ввели Пугачёва, в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склокоченные, глаза большие, чёрные же на соловом лазуре, как на бельмах.
— Здоров ли, Емелька? — подступился к нему Панин.
— Ночи не сплю, батюшка, ваше графское сиятельство, — глухо ответил пленник.
— Надейся на милосердие государыни! — важно сказал Панин, оттопырив полные губы, и повелел отправить пленника обратно.
Как бы позабыв про Державина, граф поворотился к нему спиною и ушёл за столы ужинать. «Ишь, сердитка, — подумалось поручику, — но ведь я гвардии офицер и имел счастие бывать за столом с императрицею». С этой мыслию он без особого приглашения вместе с прочими штаб- и обер-офицерами прошёл в залу и сел за столы.
Почти в самом начале ужина Панин кинул взором сидящих, увидел и Державина, нахмурился и, по своей привычке часто заморгав, поспешливо встал из-за столов, сказав, что позабыл отправить курьера к государыне. Поручик сие принял за грозный знак, но сдаваться не хотел.
На другой день до рассвету Державин снова явился на квартиру главнокомандующего и просил камердинера доложить о приходе своём его сиятельству. В приёмной галерее мало-помалу собирался генералитет и офицеры. Наконец, по прошествии нескольких часов, около обеда, Панин вышел из кабинета. Он был в сероватом атласном, широком шлафроке, французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами, глядел скоса, маленький пухлый рот был гордо поджат.
Когда Панин проходил мимо него, Державин с почтением взял его за руку и сказал:
— Я имел несчастие получить вашего сиятельства неудовольственный ордер. Беру смелость объясниться!
Граф удивлённо поглядел на него серыми проницательными глазами и велел идти за собой. Проходя анфиладою комнат в кабинет, Панин гневно бранил гвардии поручика за его действия в Саратове и неуважительное обхождение с комендантом Бошняком.
— Это всё правда, ваше сиятельство! — переждав окрики, ответствовал с твёрдостью Державин, чувствуя, как прихлынули к нему в решительный миг силы. Ах! Ведь правду о себе и других в сём свете высказать можно только в виде самой грубой лести! — Я виноват пылким моим характером, но не ревностной службою. Кто бы стал обвинять вас, ваше сиятельство, что, быв в отставке, на покое, из особливой любви к отечеству приняли вы на себя в толь опасное время предводить войсками, не щадя своей жизни! Так и я, когда всё погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу