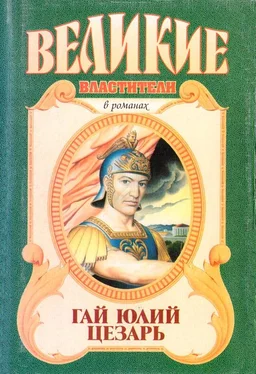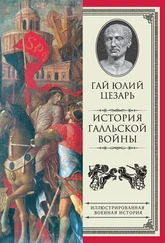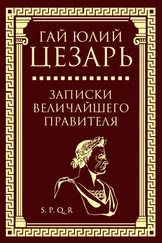Но с какой стати я должен оправдываться даже перед самим собой за ту власть, которой я пользуюсь, и пользуюсь весьма умеренно? Вполне возможно, что я должен был, находясь на Востоке, написать некий конституционный трактат для того ничтожного меньшинства, которому это действительно интересно, и в нём дать определение и объяснение моих истинных намерений. Такой трактат мог бы принести мне какую-то пользу, но очень незначительную, потому что никакие разумные доводы, как бы убедительны они ни были, не поставят на место даже самых интеллигентных моих врагов. Более того, хотя я глубоко привержен нашим традициям и конституции нашей страны, я не из тех, кому нравится подчиняться теоретическим предписаниям. Я давно понял, что в политике, как и на войне, большое значение имеет быстрота. У меня сейчас слишком много дел и слишком мало времени, чтобы уделять внимание предвзятым дискуссиям. В ближайшем будущем я должен оставаться полновластным правителем. Никто, будучи в здравом уме, не может считать меня тираном, но я-то знаю, что очень многие пребывают далеко не в здравом уме.
К этим последним я отношу Цицерона — по крайней мере, когда речь идёт о политике. После окончания африканской войны он произнёс несколько добротных и благородных речей. Он был поистине потрясён, как мне кажется, тем, что я всеми силами стараюсь избегать пролития крови римских сограждан. И недавно в сенате он первым предложил мне новые, необычайные и совершенно ненужные мне почести. Но его язык, как всегда превосходный, представляется мне принадлежащим либо к школе риторов, либо вообще к предыдущему веку. Его блестящий ум не постиг простую вещь: история жива и времена изменились. Он льстит мне почти в тех же самых выражениях, в каких обычно льстил Помпею в его юности, и когда Цицерон с благоговением говорит о республике, он имеет в виду что-то такое, что прекратило своё существование ещё до его рождения. Кажется, он нашёл время составить трактат по конституции. Не так давно Цицерон показал его моим друзьям, Бальбу и Оппию, и просил совета, стоит ли ему давать трактат мне на отзыв. Они отсоветовали ему делать это, и он обиделся. Но они правильно поступили, потому что мои комментарии, ещё больше обидели бы его. У него очень благие намерения, и он хотел бы, чтобы всё было так, как всё не может быть. На практике это означает, что у него есть только одно предложение, которое всегда казалось ему вожделенным: положение в государстве должно быть таким, при котором опытный полководец (раньше это был Помпей, теперь это я) командует армиями на поле боя, а Римом, Италией и провинциями управляет честный, патриотичный сенат, состоящий из активных деятелей-консерваторов с хорошим знанием истории, всегда готовых слушаться и следовать мудрому руководству самого оратора Цицерона. Он должен был бы знать по собственному опыту, что подобных законодательных собраний не существует. И ему следовало быть поскромнее и помнить, к чему привело его вмешательство в политику, которое едва ли извиняет разумного человека, слепо последовавшего его советам.
В конце декабря я ужинал с ним в одном из его загородных поместий. Я находился недалеко от него у отчима Октавиана и был рад откликнуться на приглашение Цицерона, хотя и совсем не желал навязываться ему в гости сам со всей своей охраной (со мной было около двух тысяч конников). К тому же, боюсь, что я обидел его, когда Цицерон утром заехал ко мне, а я не смог принять его. Я оказался слишком занят: мы с Бальбом обсуждали различные проекты и финансовые проблемы. Но тем не менее в конце концов всё прошло очень хорошо. Солдат прекрасно накормили в саду, и у меня остались самые приятные воспоминания об этом вечере. Мы разговаривали только о литературе и философии, и мне кажется, что избранная тема доставляла такую же радость Цицерону, как и мне. Я знаю, что ему ужасно хотелось дать мне политические рекомендации, но его совет вылился бы в безвредные обобщения, которые в приложении к современным делам и нуждам были бы почти или даже абсолютно бессмысленными. Он знает, что у меня практический склад ума и что я требую в политических дискуссиях знания фактов. У Цицерона же нет практической жилки, как нет и точной логики, когда речь заходит о политике. Так что он боялся, что я буду слушать его без должного уважения. Но в литературных беседах, он это знает, я ни одного его слова не пропущу, мне нравится его острый ум и огромная эрудиция. Цицерон говорит на эти темы легко, без выспренности и выслушивает меня без неприязни. Это делает ему честь. Я в какой-то мере и сам литератор и не раз наблюдал, что вообще-то поэты, писатели и ораторы ведут себя по отношению друг к другу с ещё меньшим великодушием, чем соперники-практики других профессий. Цицерон является исключением в данном случае. Он всегда очень много времени уделял молодым ораторам и людям, изучающим философию. Он отбирает и приветствует талантливые произведения искусства, созданные не им, и в этой области, где Цицерон истинный знаток, он не показывает ни тщеславия, ни нетерпимости, которые проявляет в спорах по другим малознакомым ему проблемам. Цицерон сейчас пишет очень много поэзии, к которой у него необыкновенные способности. Он говорил мне, что часто сочиняет до пятисот стихотворений за вечер. Он также интересно и плодотворно работает в области философии, создавая новые слова, придумывая замены для тех технических понятий греческого языка, которым нет эквивалентов в латинском. В общем, я полностью насладился нашей беседой и, покидая Цицерона, от всей души желал ему всего самого доброго. Жаль, что ему так многое во мне не нравится. Я бы хотел, чтобы Цицерон понял, что, пока я жив, он может спокойно продолжать свои занятия и повышать своё реноме, но если меня насильно уберут (а теперь это можно осуществить, только убив меня), в последующих за этим беспорядках он, скорее всего, не останется в живых. С ним тогда случится то, что уже случалось в прошлом. Сначала его используют, а потом выбросят. Я хотел бы иметь возможность в каком-нибудь политическом акте проявить свою благодарность к нему, потому что, в отличие от других, действительно испытываю к нему благодарность.
Читать дальше