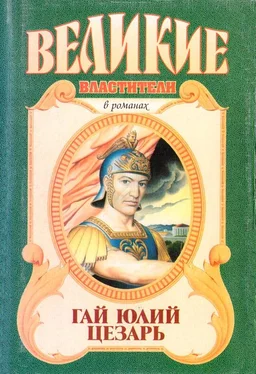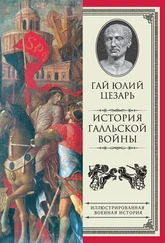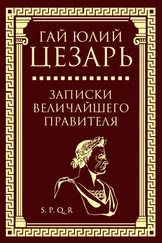Пришлось мне самому явиться к этой необузданной толпе, совсем недавно представлявшей собой образец дисциплинированной армии. Я вышел к ним в окружении необычно большого и сильного отряда телохранителей, отборных воинов, известных всей армии своими отменными подвигами. Я сделал это не из боязни повторения судьбы моего тестя Цинны, который много лет назад был убит своими взбунтовавшимися войсками, потому что не принял необходимых мер предосторожности. Я просто хотел показать легионерам, что они недостойны больше моего доверия, и сразу понял, что сделал правильный ход. Солдаты заволновались, увидев меня необычным образом отгороженным от них. Конечно, так называемый комитет убедил их, что стоит им пригрозить мне своим переходом на сторону Помпея, как я тут же пойду на любые уступки. Но тут они вспомнили то, что и так хорошо знали: запугать меня невозможно, и я скорее умру, чем подчинюсь требованиям своих войск. Когда я начал говорить, из задних рядов послышалось несколько возмущённых выкриков, но после нескольких произнесённых мною фраз меня стали слушать в полном молчании.
Я начал спокойно, напомнив им, в каких переделках в Галлии мы побывали, и ещё сказал им то, что, как мне казалось, ясно всем, — я люблю своих солдат и хотел бы, чтобы они любили меня. Но я не из тех военачальников, сказал я им, кто пытается завоевать популярность у солдат, разделяя с ними или прощая им их грехи. Затем я подчеркнул, что все наши кампании обеспечили им не только широкую известность, но и оплату, которая гораздо больше и регулярнее, чем в любой другой армии Рима за всю его историю. Они знали, как я лично всегда заботился о поставках продовольствия и об их комфорте; они знали, что после каждой удачной операции я награждал их. Не забыли они, конечно, и о своих тяжких трудах, и моих требованиях жёсткой дисциплины. А помнят ли они тот восторг, который испытывали в самый разгар трудных сражений? Помнят ли они о победах, которые сделали их знаменитыми во всём мире? Я сказал, что теперь мне трудно узнать в них людей, которых я знал и которым верил. Они, римляне, в собственной стране уничтожают имущество своих же соотечественников, ведут себя хуже, чем вели себя белги и кельты, которых они когда-то разгромили. Они опозорили себя и тем самым опозорили меня.
Я заметил, что не могу поверить в то, что все они в одинаковой мере замешаны в тех трусливых и безответственных делах, которые здесь творились. Я, конечно, хотел бы думать, что большинство из них лишь обмануты горстью бесчестных заводил, которые в действительности не являются ни хорошими солдатами, ни хорошими людьми и состоят, возможно, на жалованье у наших врагов. Но даже это не снимает с них вины. Всего нескольким негодяям удалось разложить такую массу людей, в результате они действовали против совести и против собственной натуры. Но ведь это закон природы, что одни командуют, другие им подчиняются. Когда попирается этот закон, всякая человеческая организация распадается, наступает хаос и разлад.
Если говорить обо мне, то они сами знают, гожусь я или не гожусь в командующие. Я веду свой род от основателей Рима и даже от самих бессмертных богов. И государство доверяло мне ответственные посты претора, консула и наместника провинций. Что будут стоить моё происхождение и власть, которой облёк меня народ Рима, если я покорюсь требованиям каких-то ничтожеств из собственной армии? Неужели эти жалкие зачинщики надеются запугать меня? Каким образом? Может быть, они думают, что я боюсь смерти? Так даже если вся армия решит расправиться со мной, я скорее умру, чем откажусь от своих прав и долга главнокомандующего. Уж не думают ли они повлиять на меня, пригрозив оставить меня и перейти на сторону Помпея? Если так они понимают верность и если действительно этим дышат, пусть отправляются к Помпею, он будет рад им. Я же предпочитаю, чтобы такие солдаты находились среди моих врагов, а не в моей армии. Но пусть они не надеются, что я предоставлю им транспорт до Греции или разрешу пройти маршем через Италию, грабя при этом свою страну. Они имеют право думать только о себе, я же должен думать об интересах республики и о своих собственных интересах. Мне в моей армии не нужны нерадивые солдаты-бунтовщики, и я не потерплю бандитов и грабителей в Италии, как не терпел их в Галлии.
Когда я заканчивал свою речь, большинство центурионов и командиров склонились у моих ног и умоляли простить их солдат. Я понял, что они выражали чувства всей армии, и всё же считал, что какие-то дисциплинарные меры должны быть приняты. На основе донесений, доставленных мне, был составлен список из ста двадцати человек, в который попали имена всех вожаков и наиболее рьяных их сообщников. Этот список тотчас огласили, и по реакции слушателей я понял, что моя информация была правильной. Из всего большого списка я отобрал двенадцать человек, которых должны были казнить, и вышло так, что эти двенадцать оказались как раз теми, кто возглавил это восстание. И снова, когда громко зачитали эти двенадцать имён, слушатели проявили что-то вроде удовлетворения и уважения к тому, что было воспринято как перст судьбы. Однако один из приговорённых громко протестовал, и я видел, что остальные одобряют его протест. Я велел ещё раз рассмотреть его дело и обнаружил, что он слыл хорошим солдатом, а когда начался мятеж, его не было в лагере. Донос на него написал его центурион, с которым он поссорился из-за своих личных обид. Я счёл справедливым поставить в список имя самого центуриона вместо ложно обвинённого им солдата. Так и сделали; двенадцать человек были казнены, и пошатнувшаяся дисциплина восстановилась. Теперь я мог спокойно продолжать свой путь в Рим в полной уверенности, что никаких беспорядков в армии не последует.
Читать дальше