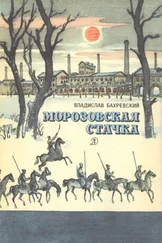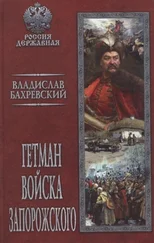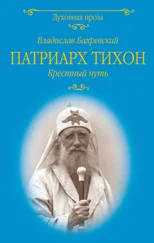Пан Смяровский затеял было дискуссию о свободном передвижении польских войск по реке Случь до Бара, Винницы, Брацлава и Каменца, но Хмельницкий предложенные польской стороной статьи опять-таки перечеркнул и сказал:
– Довольно, утомились в пустых разговорах. Поезжайте с одним письмом.
Пан воевода покорно согласился подписать перемирие на условиях Хмельницкого, ибо имел от короля инструкцию всеми силами, даже самыми неверными и малонадежными, удержать Хмельницкого за Днепром.
Ночью в городе стреляли. Под утро, когда посольство уже приготовилось к отъезду, стало известно, что несколько драгун из пленных утоплено в реке.
Отправили к Хмельницкому уведомление об отъезде, он обещал приехать на проводы, но потом прислал сотника Богуна сказать: посол и комиссары сами должны явиться.
Адам Кисель совершенно разболелся. Его привезли в санях на просторный двор перед домом Хмельницкого. Каждое движение приносило пану воеводе страдание, и он испросил у Хмельницкого разрешения не покидать саней.
Гетман согласился, вышел во двор. К саням, в которых лежал Адам Кисель, подвели красавца-коня – подарок гетмана – и дали деньгами пятьсот злотых. Здесь же были вручены подписанные Хмельницким статьи о перемирии и два письма: к королю и к канцлеру Юрию Оссолинскому.
Во дворе, окруженные казаками, стояли пленники Хмельницкого. Среди них было много известных шляхтичей: Гроздицкий, Ловчинский, Стефан Чарнецкий, Потоцкий…
Гетман нашел последнего глазами и сказал Адаму Киселю:
– Этого я задержу у себя, чтобы устроить ему встречу с братом. Если пан Петр завладел Баром, то я прикажу пана Павла посадить на кол перед городом, а того на другой кол в самом городе, чтоб глядели друг на друга.
Комиссары дружно опустились перед Хмельницким на колени, умоляя отпустить пленных.
– О пленных мы уже говорили, и больше говорить о них не стоит! – сказал Хмельницкий.
– Если вы не хотите выкупа, отпустите нас, ваша милость, к татарам! – крикнул в отчаянье Стефан Чарнецкий.
У Адама Киселя навернулись на глаза слезы. Он отдал кошелек с деньгами, подаренными ему гетманом, пленным, и члены посольства тоже стали отдавать им деньги, какие только были при них.
Многие из пленников плакали, провожая свободных своих, счастливых соплеменников.
Адам Кисель закрыл глаза, чтоб не видеть чужих страданий.
В Чигирине по случаю подписания договора о перемирии пани Елена решила устроить бал, чтоб не хуже, чем у Потоцкого.
Богдан на затею жены не обратил внимания и был весьма удивлен, когда под вечер к дому его стали подкатывать кареты, одна другой чудней, а из карет вываливались ряженные под польских магнатов полковники, есаулы, сотники с женами, с отпрысками.
Грянула мазурка, Данила Выговский тотчас пригласил пани Елену, и она, блистая красотой и драгоценностями, ринулась в мазурку, как бабочка в пламя.
Младший из Выговских – Христофор – ангажировал на танец жену старшего брата Елену Статкевич, Тетеря – жену Христофора Марину Ласку. Других пар не составилось, и сметливый Иван Выговский сам сбегал наверх к музыкантам и шепнул им:
– Немедля мазурку переведите на гопак!
Музыканты перестроились с полутакта, и старший из Выговских первым кинулся в пляску, откалывая презатейливые коленца. Данила Нечай, гикнув, вдарил шапкой об пол и скакнул в круг. Он, видно, собирался переплясать генерального писаря, но тот и не подумал уступить.
Три пары, танцевавшие мазурку, стояли посреди залы, недоуменно взирая на плясунов.
Первой опомнилась Марина Ласка, она взяла Елену Хмельницкую под руку и, не глядя на нее, шепнула:
– Вы должны помочь мне бежать из этого стада свиней.
Елена, сама не зная почему, может, от обиды за прерванную мазурку, согласно кивнула головой.
А плясуны между тем жарили такую огненную присядку, что и ног было не видать, как не видно спиц на колесах у лихого возницы.
– Иван! Иван! – кричали болельщики Выговского.
– Данила! – вопили казаки помоложе.
Их обоих подхватили под руки, усадили за стол, и началась обычная казацкая потеха, кто больше выпьет. Песни пошли. И вместо бала произошла еще одна великая попойка.
– Не знал я, что ты плясун! – сказал Богдан одобрительно своему генеральному писарю.
– Я и сам не знал! – признался Иван Выговский.
– Потому и люблю тебя! – Богдан обнял Ивана, проникновенно боднув его головой.
Стол уже был расхристан, забросан обглоданными костями. Богдан поискал взглядом жену, не нашел, усмехнулся.
Читать дальше