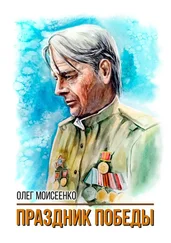– Тебя как звать? – спросил он, хлопнув ладонью по крупу лошади, где сидели оводы.
– Остапом все называют.
– А меня Дмитрий, а моя бабуля почему-то звала меня Змитро, да так и все знакомые называют. Умное это животное – лошадь, – продолжал полицай. – Ночью в любую погоду к дому приведет, такая она зрячая. Моя бабуля мне часто говорила, что лошадь клевер любит, вот потому и зрячая. Сколько я знаю, она каждый день себе сушеный клевер запаривала и пила вместо чая. Поэтому, говорит она, я никого не прошу нитку в иголку вкладывать, не то что вы, молодые.
Полицай отошел от лошади и предложил:
– Давай присядем, передохну от жары.
– Да вот уже несколько дней солнце печет, так что яйца в песке сварить можно, вот и земляника в этом году созрела раньше обычного, – поддержал разговор Остап. Они сели в тени сосны на краю окопа.
– Да ты не бойся меня, хотя что говорить – не бойся, ненавидят нас люди, и правильно. Как я в полиции оказался? На фронт не попал, война началась, а меня дома не было: ездили к дальним родственникам, вернулся назад один, без жены и сына, а в районе уже немцы, вот и остался дома со своей бабулей. А тут немцы в городок нагрянули и все, смотрю, знакомые молодые хлопцы с винтовками ходят, немецкий порядок устанавливают.
Один раз встречаю и говорят: «Ты чего это, Дмитрий, прячешься, что, немецкая власть не нравится? А советскую власть не жди, не будет ее больше». Раз, второй раз встретили и все агитируют в полицию вступать. А уже тогда можно было слышать, как их бобиками называли. А на третий раз как пристали, да еще сели, самогонки выпили и согласился я. Дня через два собрали нас, таких добровольцев, присягу зачитали, винтовку выдали, повязки на рукава нацепили, так и стал я в полиции служить.
Димитрий замолчал, снял с головы свою форменную кепку, протер грязным платком голову и продолжил свой рассказ, видно, наболело у человека на душе и ему хотелось высказаться. Бывает так, встретишь незнакомого человека и знаешь, что больше его не увидишь, и тогда можешь сказать ему то, что и близкому никогда не поведаешь. «Вот, пожалуй, такая минута и подошла к этому человеку», – подумал Остап.
– Пришел я домой, а бабка и спрашивает: «А где это ты винтовку взял, тебя же немцы арестуют, еще и в тюрьму посадят». А я ей так прямиком и говорю: «Бабуля, – я ее бабулей звал, – вот так произошло, что вступил я на службу». А она как отшатнется от меня да как закричит: «Ты что это такое надумал, это же позор на нашу семью и род наш. Ты не думай, немцы – они пришли и уйдут, как это не раз было, вон сколько разных приходило чужаков, да все бежали, и эти побегут». Да как заплачет, я к ней, а она кричит: «Не подходи ко мне, и все про позор говорит». Вижу, что это серьезно и добром не кончится.
Через неделю я хоронил свою бабулю, как ни пытался с ней заговорить, она не отвечала, а только отворачивалась. Слегла, есть не стала, воду только пила, хотел воды ей подать, не взяла, а подтащила ведро к кровати, сама зачерпнет и пьет. Такая у нее на меня обида вышла, уже чувствовал, что последние дни она доживает, подошел к кровати, прощенья просить у нее хотел, она так на меня посмотрела, что в груди запекло и жутко мне стало. А тут еще начали нас привлекать к расстрелам, я не стрелял, а был в охране. Во рвах, что для обороны от наступления немцев начинали копать, стали партийных с их семьями и евреев расстреливать. Вот привезли на машине людей, выталкивают из кузова машины несколько человек, смотрю, а это учительница, которая меня учила, ее муж, тоже учитель, и их дочка, партийными они были. Девочка плачет, к матери жмется, а та обняла ее за голову, так и идут они втроем, да мимо меня шли. Повернула голову та учительница и на меня посмотрела, да таким взглядом, что я аж зажмурился. Она отвернулась, голову девочки сильнее к себе прижала, так их и расстреляли. А взгляд тот, как уголь горящий, в груди у меня остался, и жжет, и жжет, нет от него никакого спасения. Получилось, два огня в груди горят, вот тогда начало ко мне приходить какое-то понимание, что я натворил. Это же не просто повязку на рукав нацепил и с винтовкой ходишь, получается, что признал ты что-то дьявольское, нечеловеческое. Потом стоял в охране, когда евреев расстреливали, а там тоже дети, старики, женщины, стою и думаю, что ты, Змитро, здесь делаешь, ты же участник этой беды. Запил я, да и прикинулся больным, перестали меня тогда в охрану брать, а дали лошадь и стал я развозить, что поручат. Перевозил и убитых, и ворованное, да что только не перевозил, а в груди всё равно жжет и никакого спасу от того огня нет. Напьюсь, после еще хуже становится, а тут встретился мне один человек, сказал, чтобы о нем никому ни слова, и поручил одно дело сделать. Огонь тот в груди жжет, Остап, согласился я на то дело. А что мина там лежит, это я знаю, и обращаться с ней умею, когда в Красной армии срочную служил, обучили минному делу. Ну, все, передохнул, хватит, надо ехать.
Читать дальше