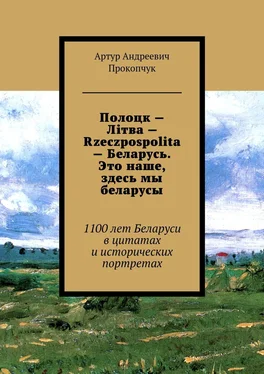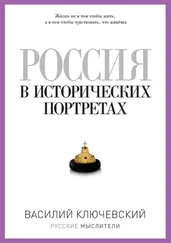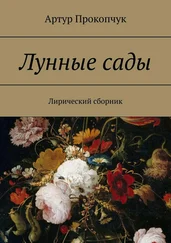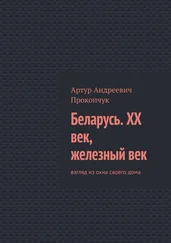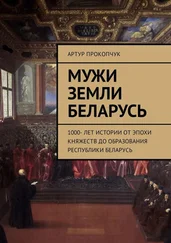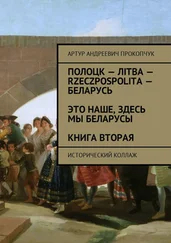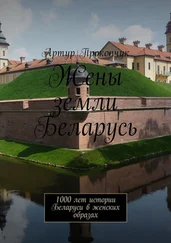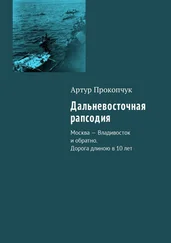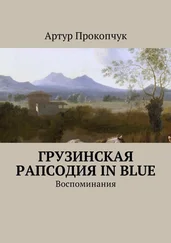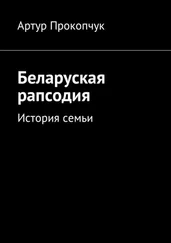Принятие Миндовгом католичества внесло разлад во все разрастающееся княжество, основное население которого сохраняло язычество (беларуское Полесье, частично, до начала ХХ века), а часть населения к этому времени уже стало обретать православие.
«В стране назревало недовольство деятельностью католических миссионеров, которые пытались организовать католическое доминиканское Литовское епископство в Любче (под Новогородком). Происходили открытые выступления против католических миссионеров, назначенный епископом Литвы пресвитер Христиан жаловался папе римскому, что на его резиденцию нападают „неверные“ из числа подданных Миндовга. Есть сведения, что первый католический епископ Литвы – доминиканец Вит – был изгнан из страны… Всё это привело к разрыву с папской курией» («Википедия»).
По сведениям, почерпнутым историками из булл папской курии, и позднейших сообщений польского историка ХV века Яна Длугоша (Jan Dlugosz, 1415 – 1480, Краков), уже после 1255 года Миндовг, возглавив 30-тысячное войско, совершил несколько опустошительных для Ордена походов в Ливонию, Пруссию и на принявшую католичество Польшу.
Как отмечала «Ливонская рифмованная хроника» [70], отправленные Миндовгом литовские войска участвовали в разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, маршал, магистр и несколько «комтуров» (командоров) (см. фрагмент, посвященный битве при Дурбе в 1260 году. Стихи 05501- 05734).
В очередном походе, эахватив польский город Люблин, Миндовг сжёг его, вследствие чего 7 августа 1255 года папа римский Александр IV объявил в Польше, Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. Крестовые походы против ВКЛ объявлялись еще не раз папской курией – в 1257, 1260 и 1261 годах, и были проникнуты антиславянской идеологией. Эти походы своим смыслом и жестокостью повторяли крестовый поход против полабских славян 1147 года, объявленный папой Евгением III [95].
Великий князь Миндовг, не получив в свое время ощутимой помощи от Рима, вступил в конфронтацию с папской курией, отказался от католичества, а около 1260 года разорвал мирные отношения с крестоносцами и поддержал восстание славянских племен в Пруссии (полабские славяне, сорбы и др.).
Думаю, что он отнесся к этому восстанию, как бывший соотечественник, выходец из Полабья.
В январе 1263 года Миндовг во главе своего войска сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле Польши [Википедия].
Трагическая и противоречивая личность создателя Великого Княжества Литовского до сих пор полна неясностей и тёмных мест. Загадки его происхождения и всей его жизни волнуют нас до сегодняшнего дня. Даже эти, краткие, приведенные выше сведения, подтвержденные многими летописями, вызывают много вопросов.
Откуда, вдруг, это несметное войско на таком небольшом по площади районе, ограниченном городами Менском (Минск), Новогородком (Новогрудком), Слуцком и Гародней (Гродно), в которых в то время проживали не сотни тысяч, как в более позднее время, а скромные несколько тысяч, в лучшем случае, десяток тысяч жителей, как проживает и сегодня в Новогрудке (29,3 тыс. человек по переписи 2010 года).
Откуда же это «30-ти тысячное войско»? Как можно было осуществить гигантские, по тому времени, масштабные походы за тысячи верст, в глубину других, неизвестных и враждебных государств? Или Миндовгу были и ранее знакомы эти земли, и он знал, что встретит в этих походах бывших соотечественников, без труда найдет понимание из-за близости языка и привлечет их на свою сторону?
Чтобы лучше понять историческую драму, разыгранную в окружении Великого князя, в его семье, неразрывно связанной с дальнейшей судьбой всего государства, последуем за другими фигурами, сохранившимися на страницах древних летописей времён «Литвы Миндовга». Трудно в них пропустить еще одну, не менее интересную, и такую же противоречивую личность – современника, сподвижника и родственника (по одной из версий даже сына) князя Миндовга, сыгравшего роковую роль в его жизни. Речь пойдет о князе Довмонте (? – 1285), о котором мы уже говорили прежде, но как о литературном герое, не касаясь имеющихся летописных свидетельств.
В исследовании польского историка Генрика Ловмянского приведены факты: в окружении Миндовга, кроме указанных в летописи, князей Аукштайтов, были еще и князья Нальшан и Упита, исчезнувших владений (или удельных княжеств?), образованных ранее. В том же договоре было о принадлежности к «Нальше» и Ошмян, городке сохранившемся до наших дней в Беларуси (Гродненская область). О «Нальше» придется рассказать отдельно, так как с этим княжеством, особенно с его князем Довмонтом, его сыном Давидом и князем Герденем, связано много историй, легенд и хроник, достоверность которых оспаривается, однако существование многих документов подтверждает самые неожиданные версии.
Читать дальше