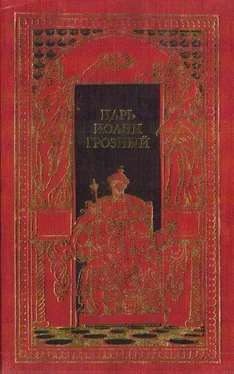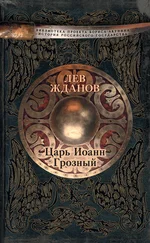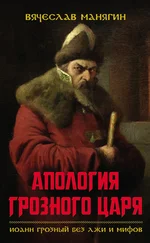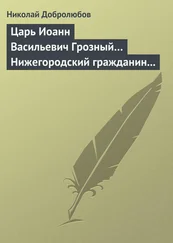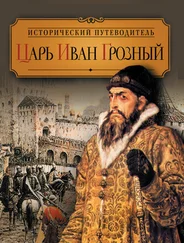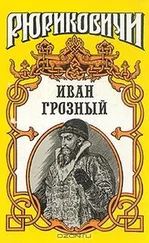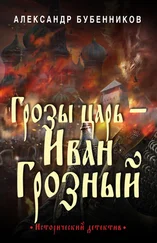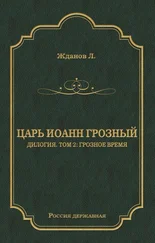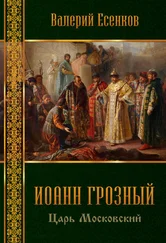Так и стало, тем более что по въезде в Псков царя встретил юродивый Никола, всему городу известный праведник. Прыгая на палочке перед царским конём, он приговаривал: «Иванушка! Иванушка! Покушай хлеб-соль (жители города встречали Иоанна постной трапезой. — Прим. авт.), чай, не наелся мясом человеческим в Новгороде!» Считая обличения юродивого за глас Божий, царь отменил казни и оставил Псков [90].
Можно ещё приводить примеры отношения Грозного царя к святым, праведникам, архиереям и юродивым. Но все они и дальше будут подтверждать, что поведение его всегда и во всём определялось глубоким и искренним благочестием, полнотой христианского мироощущения и твёрдой верой в своё царское «тягло» как Богом данное служение. Даже в гневе Иоанн пребывал христианином. Вот что сказал он Новгородскому архиепископу Пимену, уличённому в измене собственноручной грамотой, писанной королю Сигизмунду. Архиерей пытался отвратить возмездие, встретив царя на Великом мосту с чудотворными иконами, в окружении местного духовенства. «Злочестивец! В руке твоей — не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой... Отселе ты уже не пастырь, а враг Церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!»
Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь, как хирург, отсекал от тела России гниющие, бесполезные члены. Иоанн не обольщался в ожидаемой оценке современниками (и потомками) своего труда, говоря: «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого; утешающих я не нашёл — заплатили мне злом за добро, ненавистью — за любовь». Второй раз приводим мы изречение Иоанна, теперь уже с полным правом говоря: воистину так!
В отличие от историков народ верно понял своего царя и свято чтил его память. Вплоть до самой революции и последовавшего за ней разгрома православных святынь Кремля к могиле Грозного царя приходил простой люд служить панихиды, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать Божию в дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда.
ВОНМИ СЕБЕ, НЕ ЗАБУДИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО...
Боярство. Опричнина. Земские соборы
ИСТОРИКИ НЕОДНОКРАТНО сетовали на «загадочность» и даже на «великую загадочность» опричнины. Между тем ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками складывавшихся на Руси отношений народа и власти, общества и царя. Эти «неправовые» отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей, свойственных скорее семейному, чем государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни.
Так, русское сословное деление, например, имело в своём основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия — как разные формы общего для всех христианского дела: спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы «настроить» этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент, по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим для этой нелёгкой работы, стала опричнина. Глядя на неё так, всё можно понять и объяснить. Вот что действительно невозможно, так это понимание действий Иоанна IV (в том числе и опричнины) с точки зрения примитивно-утилитарной, во всём видящей лишь «интересы», «выгоду», «соотношение сил», странным образом сочетая это с приверженностью «объективным историческим закономерностям».
Для того, чтобы «настроить» русское общество в унисон с требованиями христианского мировоззрения, прежде всего требовалось покончить с понятиями «взаимных обязательств» как между сословиями, так и внутри них. Взаимные обязательства порождают упрёки в их несоблюдении, взаимные претензии, обиды и склоки — и это ярче всего проявилось в таком уродливом явлении, как боярское местничество. Безобидная на первый взгляд мысль о взаимной ответственности порождает ощущение самоценности участников этой взаимосвязи, ведёт к обособлению, разделению, противопоставлению интересов и в конечном итоге — к сословной или классовой вражде, по живому рассекающей народное тело.
Не разъединяющая народ ответственность «друг перед другом», неизбежно рождающая требования «прав» и забвение обязанностей, а общая, соборная ответственность перед Богом должна стать, по мысли Грозного, основой русской жизни. Эта общая ответственность уравнивает всех в едином церковном служении, едином понятии долга, единой вере и взаимной любви, заповеданной Самим Господом в словах: «Возлюби ближнего как самого себя». Вспомним царское упоминание о стремлении «смирить всех в любовь». Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности — общие всем, и это объединяет народ в единую соборную личность «едиными усты и единым сердцем», по слову Церкви, взывающую к Богу в горячей сыновней молитве.
Читать дальше