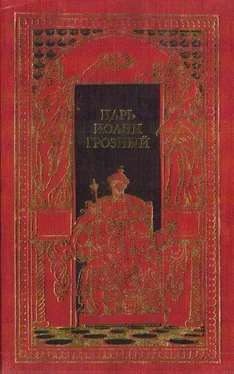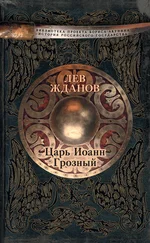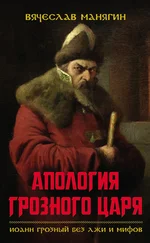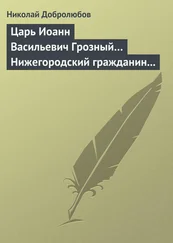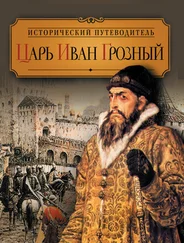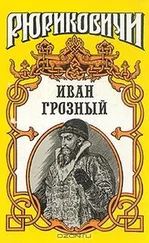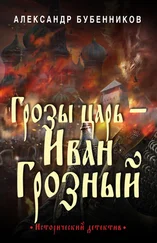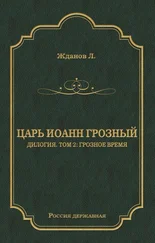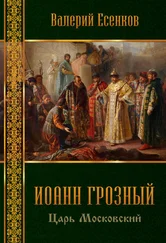В числе лжесвидетелей, к стыду обители, оказался игумен Паисий, ученик святого митрополита, прельстившийся обещанием ему епископской кафедры.
Состоялся «суд». Царь пытался защитить святителя, но вынужден был согласиться с «соборным» мнением о виновности митрополита. Причём, зная по опыту, что убедить царя в политической неблагонадёжности Филиппа нельзя, заговорщики подготовили обвинения, касавшиеся жизни святителя на Соловках ещё в бытность его тамошним настоятелем, и это, похоже, сбило с толку Иоанна IV.
В день праздника Архистратига Михаила в 1568 году святитель Филипп был сведён с кафедры митрополита и отправлен «на покой» в московский монастырь Николы Старого, где на его содержание царь приказал выделять из казны по четыре алтына в день. Но враги святого на этом не остановились, добившись удаления ненавистного старца в Тверской Отрочь-монастырь, подальше от столицы. До этих пор история взаимоотношений Грозного царя с митрополитом Филиппом очень напоминает отношения царя Алексея Михайловича с его «собинным» другом — патриархом Никоном, также оклеветанным и сосланным.
Однако торжество злоумышленников длилось недолго. В декабре 1569 года царь с опричной дружиной двинулся в Новгород для того, чтобы лично возглавить следствие по делу об измене и покровительстве местных властей еретикам — «жидовствующим». В ходе этого расследования могли вскрыться связи новгородских изменников, среди которых видное место занимал архиепископ Пимен с московской боярской группой, замешанной в деле устранения святителя Филиппа с митрополии. В этих условиях опальный митрополит становился опаснейшим свидетелем.
Его решили убрать и едва успели это сделать, так как царь уже подходил к Твери. Он послал к Филиппу своего доверенного опричника Малюту Скуратова за святительским благословением на поход и, надо думать, за пояснениями, которые могли пролить свет на «новгородское дело». Но Малюта уже не застал святителя в живых. Он смог лишь отдать ему последний долг, присутствуя при погребении, и тут же уехал с докладом к царю [89].
Опасения заговорщиков оправдались. Грозный всё понял, и лишь его всегдашнее стремление ограничиться минимально возможным наказанием спасло жизнь многим из них. Вот что пишут об этом «Четьи-Минеи» (за январь, в день памяти святого Филиппа):
«Царь... положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его (митрополита) казни. Несчастный архиепископ Новгородский Пимен, по низложении с престола, был отправлен в заключение в Венёвский Никольский монастырь и жил там под вечным страхом смерти, а Филофей Рязанский был лишён архиерейства. Не остался забытым и суровый пристав святого — Стефан Кобылин: его постригли против воли в монахи и заключили в Спасо-Каменный монастырь на острове Кубенском. Но главным образом гнев царский постиг Соловецкий монастырь.
Честолюбивый игумен Паисий вместо обещанного ему епископства был сослан на Валаам, монах Зосима и ещё девять иноков, клеветавших на митрополита, были также разосланы по разным монастырям, и многие из них на пути к местам ссылки умерли от тяжких болезней. Как бы в наказание всей братии разгневанный царь прислал в Соловки чужого постриженника — Варлаама, монаха Кирилло-Белозерского монастыря, для управления монастырём в звании строителя. И только под конец дней своих он вернул своё благоволение обители, жалуя её большими денежными вкладами и вещами для поминовения опальных и пострадавших от его гнева соловецких монахов и новгородцев».
Во время новгородского расследования царь оставался верен привычке поверять свои поступки советом людей, опытных в духовной жизни, имевших славу святых, праведников. В Новгороде царь не раз посещал преподобного Арсения, затворника иноческой обители на торговой стороне города. Царь пощадил этот монастырь, свободный от еретического духа, и без гнева выслушал обличения затворника, подчас весьма резкие и нелицеприятные.
Характерна для царя и причина, заставившая его отказаться от крутых мер в Пскове. По дороге из Новгорода Иоанн был как-то по-особому грустен и задумчив. На последнем ночлеге в селе Любятове, близ города, царь не спал, молясь, когда до его слуха донёсся благовест псковских церквей, звонивших к заутрене. Сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Иоанн представил себе раскаяние злоумышленников, ожидавших сурового возмездия и молящихся о спасении их от государева гнева. Мысль, что Господь есть Бог кающихся и Спас согрешающих, удержала царя от строгих наказаний. Выйдя из избы, царь спокойно сказал: «Теперь во Пскове все трепещут, но напрасно: я не сотворю им зла».
Читать дальше