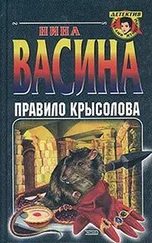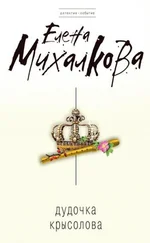— Думаю, все вы понимаете, что Пауль Гольдберг не может быть вашим товарищем. Евреям нечего делать в рядах национал-социалистической молодежи!
Мартин рассказал, что после этих слов Пауль «стал прямо белый весь» и вышел из класса без разрешения. И больше его в тот день они не видели.
— Спасибо, — коротко произнес Рональд. И вышел из светлой комнаты в темную прихожую, грубовато увлекая за собой Марию и не попрощавшись ни с кем — ни с юными крысенятами Шираха, ни с фрау Вайнраух.
Он должен был искать своего мальчика. Но не знал, куда бежать.
А бежать и не понадобилось.
Увидев в конце улицы медленно бредущую, хромающую, растворяющуюся в темноте и вновь возникающую в кругах фонарного света фигурку, Рональд испытал такое облегчение, что, казалось, мог бы сейчас взлететь.
Мария уже бежала к Паулю… добежала и жалобно вскрикнула. Рональд и сам уже видел расквашенный лоб, черный фингал под заплывшим глазом, кровавые усы под носом, грязную порванную рубашку, разбитое колено над сползшим, потемневшим от крови и грязи гольфом… Ерунда, подумал он, слава Богу, что жив, нашелся. Пусть и чуть потрепанный, но целый, это все можно починить… Ему пришло в голову, что он думал о мальчике отчего-то так же, как о скрипке с порванными струнами…
А потом поразился, каким точным оказалось это сравнение.
Он подхватил сына — слишком взрослого, довольно тяжелого — на руки и спросил:
— Кто тебя так?.. Пауль, кто?!
— Н-ннникто, — ответил мальчик.
— К врачу, — пробормотала Мария.
— Ннннне нннадо…
Ронни потащил сына домой.
— Где ты был? — спрашивала Мария, — Где, Пауль?..
— Ннннна пппустыре я б-ббыл…
— Кто тебя так, Пауль, скажи ради Бога!
— Ннникто…
Оказавшись дома, в родных стенах, он чуть отошел — а потом опять внезапно расклеился, залившись слезами, и сквозь спазмы и заикание выдавил, что никогда не пойдет больше в эту школу, никогда.
Мальчик, весь в йоде и в пластырях, спал неспокойно, несколько раз просыпался от собственного скрипа зубами. Мария сидела возле него всю ночь.
Рональд прилег, пытаясь заснуть, но глаза его вновь и вновь притягивала старая картинка на стене. Крысолов… Гитлер? Нет. Не теперь. Сейчас долговязая фигура Крысолова просто казалась ему знакомой, и толпами шли за нею уже не крысенята, а дети, обычные дети, те, что были нарисованы на картинке. Странно, что они не в коричневых рубашках… но это — временно. Они же там еще маленькие. Шкурки поменяют цвет на коричневый тогда, когда им исполнится 10 лет.
Утром Рональд, чуть рассвело, сходил на пустырь, где любила играть вся окрестная ребятня. Вечерами пареньки постарше жгли там костры, хоть родители и ругали их за одежду, пропахшую дымом.
Рональд зорко всматривался в траву, утоптанную ребячьими башмаками, в кострища, в мусор, оставленный мальчишками — бумажки от конфет, смятые самолетики из линованной бумаги, обертки от мороженого… Ему хотелось понять, что здесь случилось с его сыном.
Внезапно его осенило — скрипка!.. Да не бежать же за ней домой. Рональд замер на месте, прикрыв глаза, и вообразил, что она у него в руках, что он поднимает смычок и легко касается им струн.
Этого оказалось достаточно. Ведомый неясной уверенностью, он побрел в тот край пустыря, что зарос высоким бурьяном, крапивой и чертополохом. И обнаружил там маленькое черное пятно на земле, несколько обгоревших щепок и клочок черного шелка, вплавившийся в одну из них.
Оскорбленный, оплеванный перед всем классом мальчишка сжег свой так и не повязанный галстук. Этот проклятый черный ошейник для бурых дрессированных крысенят.
А потом…
Рональд снова вскинул руки, воображая в них скрипку… и почти сразу уронил их, они повисли, как парализованные… Он сам чуть не упал — таким знакомым было то, что он увидел. Таким далеким. Просто уже другие были на месте Эдди Хайнеса.
Он слышал эти юные голоса — наверняка парнишки еще «пускали петуха», но не вчера, ибо в них не было неуверенности.
Он видел их — так ясно, что при необходимости (а она есть!) узнал бы. Трое. Лет по четырнадцать, если не старше. Чуть загоревшие под весенним солнцем прыщавые лица, колючие челки, колючие усмешки. Коричневые рубашки, засученные рукава, мятые черные галстуки, голые коленки, спущенные для шика гольфы, пыльные башмаки. Не Юнгфольк — Гитлерюгенд. Может быть, тоже новички — в гитлерюгенд берут в 14, и тоже, наверное, на день рождения этого дегенерата… Там, в этих отрядах, им придется несладко, может, они это знают — и оттого-то им еще слаще глумиться над «малышней»… даже над своей… а уж над Жиденком, Который Посмел Сжечь Галстук…
Читать дальше