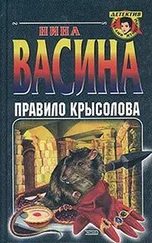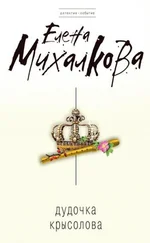В смерти Чарли они наверняка винили себя — не поняли, не проследили, не спасли…
Переспать с мужиком он хотел САМ. И теперь думал — а может, стоило так и остаться на всю жизнь игрушкой чужих желаний?.. Ведь так было б спокойнее. А теперь… теперь ему и впрямь захочется мотаться в Мюнхене всю неделю, лишь бы увидеть странно-прозрачные зеленые глаза штурмовика.
Это замечательно, бормотал, словно себя заклинал, тощий растрепанный паренек в мятом пиджачке, мутным взором глядя на просыпающийся город.
Это было неэстетичное зрелище — нет, Мюнхен, конечно, был прекрасен, и казалось, в таком городе должны жить благополучные, довольные жизнью люди… Да как бы не так, с конца войны с каждым днем все обстояло хуже и хуже, Бальдуру нужно было благодарить небеса за то, что мама его была американкой с изрядным состоянием. Иначе бы он сейчас, возможно, был одним из тех голодных ребят, которые весь день бегали по городу в поисках хоть двадцати пфеннигов: «Фрау, я донесу сумки?..», «Фрау, я посмотрю за вашим малышом?», «Герр Тиц, я помою вашу машину?»
Мать возила Бальдура в Штаты, и ему нравилось там, но через несколько дней он — даже в пятилетнем возрасте — начинал тосковать по Германии. Полукровка, он любил ту страну, где родился. До боли в сердце тосковал по Веймару с его густой зеленью и памятником Гете, по Берлину, по Мюнхену — по всем городам, где случилось побывать. Отлично говоря по-английски (это был язык, на котором он говорил с рожденья), предпочитал немецкий. Очень переживал, когда кто-нибудь замечал, что он говорит по-немецки не как все — а как-то слишком уж правильно. Литературно.
Бальдур очень любил свою маму, но предпочел бы, чтоб половина его крови — американская англо-саксо-французская мешанина крови Мидлтонов и Тиллу — начисто растворилась в баварской крови фон Ширахов. Он был счастлив, что не унаследовал от матери внешность и походил на отца, впрочем, баварского в его внешности ничего не было — ни темных волос, ни коренастости. Бальдур был высок и строен, со светлыми волосами и синими глазами, скорей уж саксонец, чем баварец.
Бальдур выбросил окурок. Ветерок приятно обдувал лицо.
Юноша присел на ближайший парапет и принял решение сидеть тут до Судного дня, если ему суждено протрезветь только в Судный день: в нем все еще бродил вчерашний хмель, и он знал, что это очень заметно.
Думая о своем, он безучастным взглядом смотрел на идущих мимо, но взгляд его недолго оставался безразличным.
Бальдур был плохо устроен — его мама всегда говорила — «слишком впечатлительный». Когда он подрос, она говорила — «солнышко мое, всех жалеть нельзя, слез не хватит».
Слез, конечно, уже не было — Бальдуру было уже семнадцать — но он был все тот же, что в пять, что в десять лет. Тот, кто плачет над сказкой, где кого-то убили — пусть и самого плохого персонажа — будет неслышно и незримо плакать всегда, над любой чужой болью.
Просто в Бальдуре рано проснулась — и прочно поселилась — потребность смотреть на людей и ВИДЕТЬ их. Ему все было интересно. Воспитанный на стихах Гете и с жадным интересом читающий все литературные новинки, он с тем же интересом слушал, как переругиваются на улице полицейский и торговка.
Бальдур смотрел на мужчин с сильными, привыкшими к работе руками — они шли, по привычке проснувшись рано, но идти было некуда. Они сами это знали, и их глаза удрученно смотрели по сторонам: может, где нужен грузчик? Уборщик? Землекоп? Вышибала? Выбивала ковров? Кто угодно?
Женщины. Тоскливые глаза, красные рабочие руки. Может, где нужна прачка? Уборщица? Посудомойка? Кто угодно?
Дети. Это было хуже всего. Бальдур всегда багровел до корней волос, если какой-нибудь паренек предлагал ему:
— Посторожу ваш велик, а то уведут ведь… Пятьдесят пфеннигов, сударь…
«Мы сговорились встретиться на Мариенплатц.
Он опоздал на полчаса. Ведет себя, как девица. Хочет, чтоб я его ждал, щенка.
Хотя, что там говорить, на самом деле я не злился. Мне казалось, что он обязательно придет, я был в этом уверен. И хотел увидеть его. На него приятно смотреть.
И он прибежал, делая вид, что страшно торопился.»
— Эдди, извини, у нас сегодня была лишняя лекция, и уйти было никак нельзя, потому что этот профессор имеет привычку сообщать родителям… Стар, как Гете, а память идеальная, всем бы так… Притом глухой, как пень. Однажды стою у него за спиной — он в портфеле роется — и пытаюсь всучить ему свою письменную работу. «Герр Эккерман!» Не оборачивается. «Герр Эккерман!!» Тот же эффект. «ГЕРР ЭККЕРМАН!!!» — «Что вы так орете, фон Ширах, я не глухой!»
Читать дальше