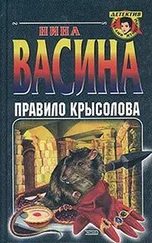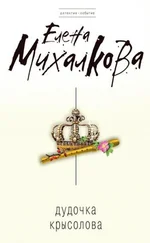— Пауль, помолчи. Герр фон Ширах, сейчас мы не можем ехать. Нам…нужно его похоронить, как вы понимаете… Спасибо вам.
И тогда Бальдур сделал единственное, что ему оставалось. Порылся в карманах плаща и отдал Марии Гольдберг свой неплохо набитый бумажник.
Дельбрюгге никогда не видел гауляйтера таким. Тот явился с утра в канцелярию, как, прости Господи, нибелунг, которому кто-то наплевал в брагу, и брюзгливо сообщил:
— Я собираюсь звонить Гиммлеру.
Вот чудеса-то. Да его силком не заставишь звонить Гиммлеру.
— А что, какие-то новости? — поинтересовался Дельбрюгге. Он никаких новостей не знал.
— Плохие. Кто-то из ваших парней вообразил себя таким героем, что нарушает приказы Хайни.
— Что-что?..
— Вот, — гауляйтер сунул ему под нос тот самый листок со списком, — тут написано, что первая по списку семья подлежит депортации на восток. Сегодня.
Бальдур не стал бы напоминать об этом Дельбрюгге, если б уже абсолютно точно не знал, что ранним утром Гольдберги покинули Вену.
— И что получается? — продолжал он, очень артистично разыгрывая высокомерную шишку, — А получается то, что депортация этой семьи в полном составе невозможна.
— Почему?
— Кто из ваших… хм, не вполне трезвых викингов вчера пристрелил на улице этого еврея? А?..
— Ничего об этом не знаю, — вздохнул Дельбрюгге, — но, думаю, узнаю. А, собственно, в чем вопрос-то, герр гауляйтер? Отправили на восток или зарыли здесь — какая уж существенная разница?
— А вопрос эсэсовской дисциплины? — нежно напомнил ему Бальдур, — Эсэсовец — это не просто руны «зиг» на вороте, фуражка и тупая башка. Эсэсовец — это верность приказу!
— Я решу вопрос с этим… случаем, — пробурчал Дельбрюгге, — и сам позвоню куда нужно…
Он был очень зол. Вся канцелярия слышала, как этот рохля ткнул его носом в некомпетентность его подчиненных — и заодно в его собственную. Он не привык узнавать о том, чем заняты подчиненные ему эсэсовцы, от гауляйтера. Как правило, дело всегда обстояло наоборот.
Бальдур едва досидел в своем кабинете до вечера, испытывая странную смесь радости и легкого страха. И еще у него снова возникло то ощущение, которое и делало его самим собою — а он-то думал, что тут, в Вене, в вечных стычках с СС и в вечном страхе перед Гиммлером и Борманом, навсегда утратил его.
Ветерок. Что-то вроде прохладного ветерка в груди, уносящего все выше и выше в небо его быстро бьющееся сердце. Предчувствие — нет, не черное предощущение близкой беды, а предвестие чего-то странного или необыкновенного. Так было перед появлением в его жизни и Пуци, и Отто.
Кстати об Отто…
— Герр адъютант, а не явились бы вы?..
— Что такое, Бальдур? Что-то имеешь мне сказать? — ухмыльнулся парень. Балаболка Бальдур, конечно, не удержался от того, чтоб не рассказать ему историю этой ночи, к тому же, Отто, как и все, наблюдал, как Бальдур сегодня вытирал сапоги об Дельбрюгге, и его это, как и всех, очень порадовало.
— Я, Отто, имею тебе сказать, что сегодня напьюсь.
— Господи, твоя воля! Дома.
— Нет.
— Куда собрался?..
— Куда-куда. Я уже одичал, Отто, в этом зоопарке. В ресторан при «Гранд-Отеле» пойду.
— Это без меня. Не нравятся мне рестораны эти… Опять же, костюм напяливать надо…
— Не хочешь, ну и не ходи.
— Бальдур, я только хотел сказать — можно же надеяться, что из ресторана ты приедешь вовремя? Все же ресторан… говорю же — сидел бы дома! Дома-то уж можешь наширахаться, как тебе взбредет.
— Что-оооо я могу дома сделать?!
— Наширахаться. Потому что так, как ты, не напивается абсолютно никто. Люди, когда выпьют, радуются жизни, поют «Хорст Вессель», танцуют с дамами. А ты сидишь мне стихи читаешь, слушаешь «Реквием» Моцарта и куришь по двадцать папирос за раз… — грустно улыбнулся Отто.
— Не сегодня. Сегодня у меня есть все основания радоваться жизни.
Отто внимательно посмотрел ему в лицо — и тут же ему поверил. Бальдур улыбался нормальной, а не дрожащей улыбкой, и у него светились глаза.
Между прочим, его крайне порадовало в том числе и изобретенное его адъютантом словечко. Оно напомнило ему о Пуци.
Столика он не заказывал — не хотел привлекать лишнего внимания к своей весьма заметной персоне, да и знал, что сейчас, во время войны, в ресторане при «Гранд-Отеле» не бывает слишком много посетителей. Слава Богу, никого в черном-с-серебром, с рунами «зиг» и в фуражках тут не наблюдалось. Сам Бальдур был в смокинге, плевать ему было на этих всех, а вот на правила хорошего тона — еще пока не плевать. Он вспомнил о том, как Пуци глядел на коричневорубашечников в театральной ложе. Нет, в самом деле, что за отвратные манеры у них у всех. Даже… у фюрера. Вот только некому ему, фюреру, указать на это. Особенно теперь, когда Пуци нет.
Читать дальше