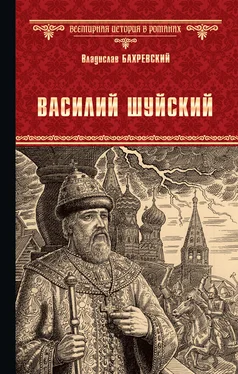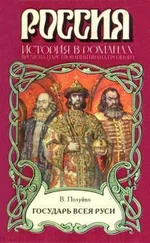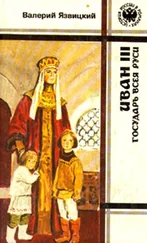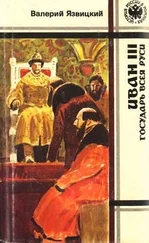– Двум смертям не бывать. В службу, как в прорубь, – сказал себе Василий Иванович.
Пошарил ногой по земле, нащупал камешек. Поднял, кинул в озеро.
– Сам буду царем, коль не плеснет.
И не услышал плеска. Изумился. Головой покачал сокрушенно. Таких глупых дум батюшка не одобрил бы. Сечь за такие думы надобно до кровавых рубцов. С такими думами недолго царю Иоанну послужишь.
Поспешил в светелку. В постель, в постель, чтоб дурь заспать!
4
Пробудившись, князь Василий не выдал себя, смотрел, как Первуша Частоступ, шепча что-то нежное, младенчески улыбаясь, писал мафорий на Богородице*. Богородица склонялась над предвечным Младенцем, дарила Радости Своей материнский ласковый поцелуй.
– Проснулся? – спросил Первуша, не оборачиваясь.
– Да я и ресницами не шелохнул, как ты услышал, что я не сплю? Научи! – Князь проворно поднялся с постели.
Старец повздыхал, охая.
– Наука моя – старость премудрая, это она все знает, – показал на икону. – Знаешь, как называется? «Гликофилуеса». «Сладкое лобзание» – по-русски.
– Афонская?
– Обретена в Афоне, в морских волнах, возле Филофеевского монастыря. Уж такие времена тогда случились. Император Феофил иконы сжигал, а поклонявшихся иконам предавал смерти. Из Византин приплыла. А написал сию икону апостол Лука.
– Лука и Владимирскую написал, и Одигитрию, и Влахернскую.
– Семьдесят икон у Луки-евангелиста. Семьдесят чудотворных животворящих источников от него, старателя Господнего, пришло нам, грешным.
– Пойду умоюсь, – сказал князь. – А потом помолимся вместе. С детства люблю с тобой молиться.
И они помолились, попели, поплакали.
– Сладко душе! – Василий Иванович троекратно поцеловал старца. – Спасибо тебе, драгоценный мой Первуша.
– Отдали дань Богу, а плоть тоже свою подать требует. Печь я нынче не топил, медом да творогом – обойдемся ли? Ты уж прости меня, князюшко, заработался я, грешный. – И полюбовался на дело рук своих. – Хороший цвет получился. Когда не получается, у меня пусто в сердце, а сегодня тепло.
– Цвет благородный! – согласился князь. – Ты ведь знаешь, чего с чем смешать, чтоб было такое.
– Знать – знаю, но коли на совести хоть пятнышко нечистоты – ускользнет радость. И того положишь, и этого, как всегда, а вот ускользнет. Почитай-ка перед принятием пищи! – положил книгу перед Василием Ивановичем.
То было слово Ефрема Сирина «О душевном страхе».
– «Сидел я наедине в одном нешумном, безмолвном и возвышенном месте, – читал вслух князь Василий, – размышлял сам с собою и перебирал жизнь сию, ее заботы, смятение, молву и, заплакав, стал говорить сам себе: “Почему жизнь эта проходит, как тень, пробегает, как самый скорый течец, и увядает, как утренний цветок?” И опечаленный, вздыхая, сказал я: “Как проходит сей век, мы не знаем. Для чего же по слабости своей связаны делами и помыслами непристойными?”»
Словно о нем было написано, о Василии Ивановиче, князе Шуйском, и не от этой ли суетливой пустоты прибежал он сюда?
Но Ефрем Сирин, святой мудрец, тотчас и показал, что все эти мысли – суета сует и, коли возгнушалась душа небесным своим чертогом, быть гневу Господнему.
Когда вернулся Первуша с медом, с хлебом, с творогом, князь сидел тихий и печальный. Резкая морщинка обозначилась вдруг на чистом его челе от переносицы мимо левой брови вверх.
– Добрую книгу дал ты мне, Частоступ. Да только что нам, знающим, где истина? Разве могу я отказаться от царской службы? Упаси боже! Буду грешить, делать подлости ради чинов и милостей, преумножая славу рода, имение рода, казну рода. Проживу, как все Шуйские. Батюшка мой ради прибыли да скорейшего боярства в Опричнину пошел. Дед мой не убоялся на глазах царя-отрока расхищать царскую казну, приобретать на чужих слезах земли и рабов… Что скажешь, Частоступ, писатель святых икон?
– Скажу: Бог будет к тебе милосерден.
– За то, что, зная истину, предпочту жизнь во лжи?
– Бог будет к тебе милосерден, – повторил старец, поливая густым медом творог. – Ешь нашу еду, князь… Мужики затеялись рыбки наловить. Тебя зовут, если есть охота.
– Скажи, Первуша, Агий-то жив?
– Живехенек.
– Не завезут ли рыбари меня на его остров?
– Отчего не завезут? Скажи им, пусть к ладье лодчонку привяжут, сам к нему догребешь, без посторонних ушей и глаз.
Князь глянул на старца и головой покачал.
– Тебя бы в царскую Думу.
– Да у нас тоже Дума! – улыбнулся Первуша. – Мы в починке на самом порожке Царствия Небесного, нельзя не раздуматься.
Читать дальше