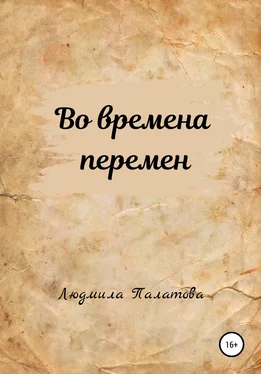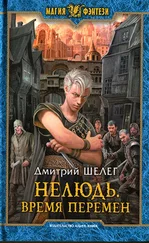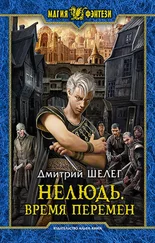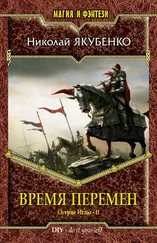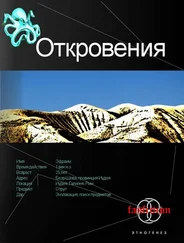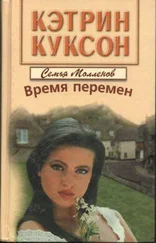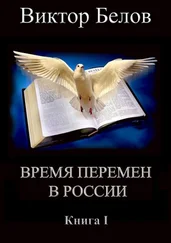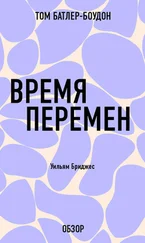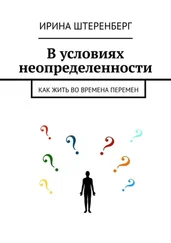Стало проблемой помыться. Удобства в наших домах были во дворе. В городскую баню стояли длиннущие очереди, к тому же там постоянно выключали воду. Исчезло мыло. В банях на один билет давали крохотный, с доминошку, кусочек хозяйственного мыла. Мы покупали с десяток билетов по 20 копеек, и получался брусок, которым можно было помыться. И опять же, надо отдать справедливость властям, в эту страшную войну они не допустили эпидемий даже в таких невероятно тяжелых условиях. Большую роль в этом сыграли ученые нашего института, профессора Б.И. Райхер и А.В.Пшеничнов. Они разработали способ получения сыпнотифозной вакцины путем кормления вшей на кожной мембране, взятой от трупа и натянутой на сосуд с кровью. Раньше эту функцию приходилось выполнять донорам, что
не позволяло получать материал для прививок в больших количествах. Эта вакцина спасла огромное количество жизней в тылу и на фронте.
И при всех этих обстоятельствах в школьной программе не было сокращено ни одной темы, наоборот, прибавилось военное дело, беседы о патриотизме, подготовки к приветствиям на многочисленных торжественных собраниях и много чего другого. Литмонтажи мне долго снились, до того «в зубах настряли». А ведь была еще и музыкальная школа, и в ней хор, выступавший и по радио, и на торжественных собраниях, и в госпиталях. «От края до края по горным вершинам», красивая кантата Александрова на четыре голоса, «Сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора», голодная и раздетая, ждущая весточки с фронта и получающая похоронки. И все же мы свято верили в победу. У нас, школьников, даже сомнений не было в исходе войны. Наши тоже голодные и озябшие учителя в нас эту веру поддерживали, успевая при этом учить на совесть, показывать красоту мира. Они помнили, что мы – дети и нам хочется чудес и загадок. Наша любимая учительница биологии, Людмила Вячеславовна Щербакова, вела урок с необыкновенным энтузиазмом. Я вспоминаю, как горели ее глаза, когда она излагала материал про ужей и гадюк (вот ведь гадость, по моему). Но, отрывая от любимого предмета по пять минут в конце урока, много дней рассказывала нам «Графа Монтекристо». Художественные книги в войну практически не издавались. Все приключенческие романы мы прочли гораздо позже, уже со своими детьми. А тогда это было окошечком в мало известный нам мир.
Пройдет много лет. Я помогу Л.В. полечиться в клинике. А еще через много лет ее внучатый племянник и одногруппник моей внучки принесет мне прекрасное ее письмо и стихи с благодарностью за лечение. Его нашла дочь в бумагах Л.В. после ее смерти. А я получила школьный привет.
В самом начале войны старшие школьники организовали ШТЭМ (школьный театр эстрады и миниатюр). Он действовал по типу агитбригады и выступал, где только можно. Репертуар был сугубо патриотический, но не следует забывать о военной цензуре и Всевидящем оке – НКВД. Это была огромная ответственность, прежде всего, А.И. Она ее взяла на себя, хотя при малейшей ошибке несдобровать было бы и ей, и ребятам. Уголовная ответственность тогда была с 12ти лет. И при этом, А.И. не забывала о культуре. На возражение Левы Футлика: «Ну, это что-то не тоё!» она немедленно отреагировала: «Лева! А нормально сказать нельзя?» И Лева немедленно извинился. Все участники ШТЭМ стали профессиональными артистами, режиссерами, администраторами: Юра Гладков, Тамара Шилова, Лева Футлик, Боря Левит, Боря Наравцевич, Сема Баршевский.
Надо заметить, что приличным манерам нас пытались учить в школе всегда. Когда я, постучав, ввалилась в кабинет и заявила: «Александра Ивановна! Мне надо поставить печать на карточки» – она спокойно объяснила мне, что мое «надо» никому не интересно, а мне следует выйти обратно, вернуться и спросить, можно ли поставить печать на эти самые карточки. Этой инструкции мне хватило на всю оставшуюся жизнь.
Позднее так же необидно, но доходчиво, мне объяснили, что порядочные люди помогают учителю донести пакет с тетрадями (а вдруг скажут «подлиза»), а подавать пальто надо пожилым людям обязательно, независимо от пола. И женщины должны так поступать тоже. Такой политес в нашем кругу известен не был, хотя в старших классах мальчишки наши единственные выходные туфли все-таки носили за пазухой.
Надо вспомнить, что помимо беды и тягот, в войну Пермь получила и бесценные дары культуры и техники. Из Ленинграда к нам были эвакуированы Кировский театр, хореографическое училище, фонды Русского музея, часть Кировского завода и др. У родителей Руфы был абонемент в театр, мы с ней пересмотрели весь репертуар со всеми звездами: Улановой, Дудинской, Шелест, Сергеевым и многими другими. В городе осталась на некоторое время репрессированная Е.Гейденрейх и основала знаменитое теперь хореографическое училище. Часть Кировского завода превратилась в самостоятельное предприятие, как и наш, ныне в бозе почивший, телефонный завод.
Читать дальше