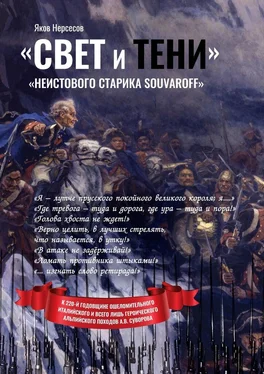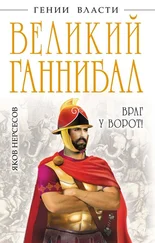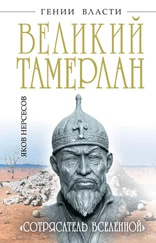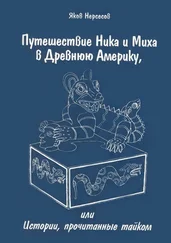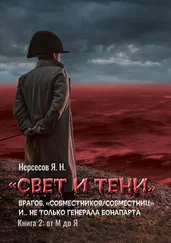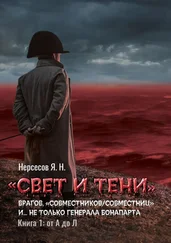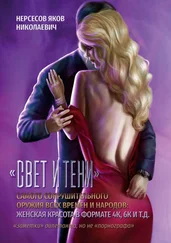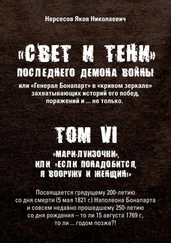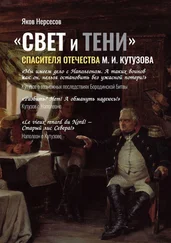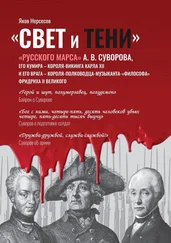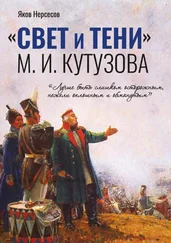Уже тогда Суворов старался ошеломить противника нестандартностью решений. Так, Александр Васильевич лихо бросал своих гусар-удальцов в стремительные конные сшибки на «белом» оружии на вымуштрованных прусских всадников, приученных стрелять только с шага и атаковать холодным оружием на замедленном галопе: только так сохранялась стройность рядов. Веру в эффективность залпового огня надвигающейся на противника в четких порядках вражеской конницы Суворов пытался ниспровергать стремительно-сокрушительным натиском. Только так – мгновенно сокращая дистанцию до врага – он полагал возможным избегать больших потерь от залпов весьма неточных в ту пору мушкетов и, тем более, пистолетов. Ведь оба вида огнестрельного оружия считались эффективными только по малоподвижной плотно построенной большой цели. Даже пушечный огонь был не столь уж губителен, если кавалерия не двигалась крайне скученно и не стремительно. Быстрый конный бросок на врага не только ошеломлял его, но и сберегал огромное число жизней атакующих всадников.
В общем, кто быстрей и энергичней атакует, тот и побеждает
Берг первым из начальников оценил новизну тактических приемов Александра Васильевича и «потакал» его инициативам.
Это не осталось незамеченным Румянцевым и 6 июня 1762 г. он даже представил императору Петру III подполковника Суворова к производству в полковники, но реляция Румянцева осталась без ответа. Ее просто не успели рассмотреть в Санкт-Петербурге: там в этот момент Екатерина свергала своего супруга Петра III с престола и будущий генералиссимус российских войск, по-прежнему, остался подполковником, а ему к тому времени уже шел 33 год.
… Между прочим , по другой версии дело обстояло несколько иначе. Рассказывали, что чем-то недовольный отцом Суворова Петр III отозвал того из действующей армии и назначил губернатором в… Сибирь. Не исключено, что такой резкий «разворот» сказался и на карьерном росте его сына: оцененный непосредственным начальством, но не в верхах – тот отстал от своих «коллег по ремеслу», поступивших на службу позже него, например, Н. В. Репнина и Салтыковых – Ивана Петровича (28.6.1730 -14.11.1805) с Николаем Ивановичем (31.10.1736 – 16.5.1816, Санкт-Петербург)…
Было отчего приуныть. Суворов чувствовал досаду и неудовлетворенность. За семь лет войны ему не удалось совершить ничего значительного. «В Пруссии я чинами обойден» – с горечью замечал амбициозный Суворов позднее.
… Кстати сказать , некоторые историки склонны полагать, что Александру Васильевичу Суворову было свойственно нудно жаловаться на чужие интриги и зависть со стороны «братьев по оружию», что в армейской касте всех времен и народов было явлением банально обыденным. В отечественной историографии, особенно в советский период, эту его черту было принято всячески замалчивать: как никак – «икона» русского полководческого искусства! А ведь он выпрашивал, клянчил, требовал награды, вечно считая себя обделенным: «Вашему сиятельству и впредь служу. Я человек бесхитростный… лишь только, батюшка, давайте поскорее второй класс» – так он писал И. П. Салтыкову, требуя себе очень высокую награду – орден Св. Георгия 2-го кл. – награду полководческого уровня! В старости, когда награды, наконец, посыпались на него как из рога изобилия, он произнес философскую сентенцию: «Я не прыгал смолоду, зато прыгаю теперь…»
Но вскоре в столице все стало на свои места и воцарившаяся на троне Екатерина II, не забывшая заслуг отца Александра Васильевича, Василия Ивановича, в дворцовом перевороте, подписывает залежавшийся указ о присвоении его единственному сыну долгожданного звания полковника. Дело в том, что именно подполковник А.В.Суворов доставил новой императрице донесение о состоянии дел в армии, находившейся в ту пору заграницей под началом генерал-аншефа, графа Петра Ивановича Панина (1721, Вязовна, Мещовский уезд, Калужская провинция, Московская губерния – 15 [26].4. 1789, Москва), сменившего по указу императрицы П. А. Румянцева. В ту пору за привоз важных известий те, кто их доставлял, как правило, получали ценные подарки и очередные чины. Дело в том, что отец Суворова задержался с отъездом к новому назначению в Сибирь и в меру своих возможностей посодействовал приходу к власти Екатерины II. Новоиспеченная императрица, наградившая (9.III.1763 г.) отца Суворова чином премьер-майора лейб-гвардии Преображенского полка, побеседовав с его сыном, не только определила последнего на новое место службы, но и подарила ему свой портрет. Позже Суворов напишет на нем: « Это первое свидание проложило мне путь к славе… »
Читать дальше