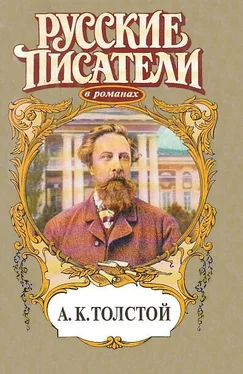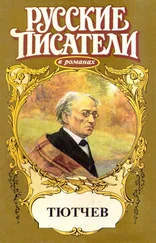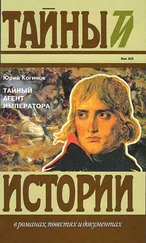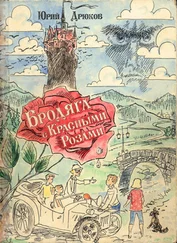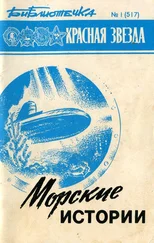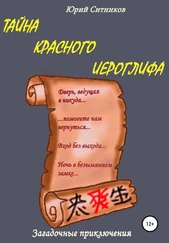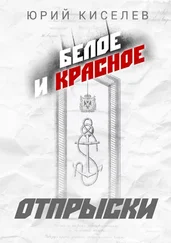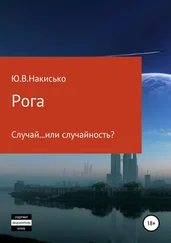Тут уж он не стерпел, ответил тем, что у Анненкова — чухонский язык, да откуда же быть другому, если брат его был обер-полицмейстером. Понял после сам, что не стоило так «клепать» на критика, недостойная это полемика, но чего не сделаешь в азарте.
Определяло же отношение к пьесе мнение людей сведущих и талантливых. Тот же Гончаров высказался о драме: «Превосходная пьеса, по высоте строя и тона относящаяся к разряду шиллеровских, а по стихам — пушкинских созданий». Профессор Никитенко свой разбор пьесы окончил так: «Трагедия гр. Толстого принадлежит к тем серьёзным, капитальным, истинно художественным произведениям, каких в нашей литературе вообще немного, а в текущей и вообще не замечается. К этому мы не без удовольствия спешим прибавить, что, сколько нам известно, мыслящая, образованнейшая часть публики одного с нами мнения».
Александр Васильевич, профессор Петербургского университета, критик, цензор, действительно знал, что говорил, ссылаясь на мнение мыслящей публики. Успех трагедии в Петербурге был столь огромен, что ложи раскупали за две недели и ни разу не оставалось ни одного непроданного места. Дирекция театра исключительно на «Иоанна» подняла цены, и за него платили, как за оперу. Накануне представлений с 8 часов утра уже становились в очередь у кассы, открывавшейся только в 9. А барышники продавали по 25 рублей билеты в кресла, и это — не на первое представление, а на четырнадцатое! Из Москвы приезжали, чтоб посмотреть пьесу, отдельные лица и целые семьи и возвращались, не увидев её.
Премьера в столице состоялась в четверг, двенадцатого января 1867 года. Вслед за Петербургом спектакль стали готовить в Москве в Малом театре, постановку разрешили в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.
А Толстого уже ждал Веймар: здесь в январе следующего, 1868 года, одновременно с премьерой в московском театре, «Иоанн» должен был быть поставлен на немецком языке в переводе Павловой.
В окнах замка в Вартбурге — свинцовые рамочки, как медовые соты. Если сесть у дубового стола и смотреть вниз, откроются удивительные по красоте горы, покрытые лесом, а у больших старых деревьев, что растут под самым окном, видны лишь макушки.
Замок древний, так и кажется, что в его помещениях с гербами, старинной мебелью и посудой непременно столкнёшься с привидением.
Чу! В комнате рядом — чьи-то шаги. Толстой встал, взял со стола канделябр, в котором четыре тонких коротеньких свечи, и вошёл в дверь рядом.
Свет луны голубой дорожкой тянется по полу — и ни души вокруг. А ведь, кажется, именно здесь когда-то жила Святая Елизавета, поплатившаяся жизнью при странных обстоятельствах, как говорят, связанных с привидениями. Но это — в легендах. Теперь же, когда наступает день, замок выглядит уютно и гостеприимно, недаром сюда поселяют самых дорогих гостей великого герцога и он здесь даёт торжественные обеды.
Всё же загадочно и странно устроена человеческая душа — она постоянно тянется к тому, что когда-то знала в самую раннюю пору своего развития или что передала ей память далёких предков.
Софи, например, нередко говорила, что у неё сердце сильнее бьётся всякий раз, когда она выезжает куда-нибудь в заволжскую степь. Кажется, что и седой ковыль, и неоглядные дали — всё дышит далёкой и знакомой Азией, наполнено лавинами скачущих диких орд, свистом стрел и копий.
У него же — свой, рыцарский, мир, к которому он будто когда-то тоже принадлежал. И потому здесь, в замке, расположенном в центре Европы, где со стен смотрят картины средневековых рыцарей и хранятся музыкальные инструменты миннезингеров [50] Миннезингеры — немецкие рыцарские поэты-певцы; их искусство возникло в XII в. под влиянием провансальских трубадуров. Воспевали любовь к даме, служение Богу и сюзерену, крестовые походы, стремясь согласовать светски-рыцарское и религиозное миропонимание.
, он чувствует себя в родной стихии.
Впрочем, не только далёким чувством — реальной человеческой памятью он связан с Саксен-Веймар-Эйзенахской землёю в Германии. Здесь он когда-то был десятилетним мальчиком, сидел на коленях у великого Гёте, играл на дорожках парка со своим сверстником, сыном великого герцога Карла Фридриха и великой герцогини и русской великой княгини Марии Павловны — Карлом Александром.
Ныне великий герцог Карл Александр радушно принимает русского графа и своего давнего знакомого. Оба они уже приблизились к своему полувековому юбилею. Но походка герцога легка, лицо подвижно, оживлённо, он с удовольствием самолично показывает исторические достопримечательности в своих владениях, старается вставить в немецкую речь целые фразы на языке своей матери. Впрочем, русский гость отлично изъясняется по-немецки, даже, смеясь, вспоминает, как подданные герцога не раз делали ему замечания, почему он не пишет сразу на родном немецком, а употребляет для своих сочинений якобы выученный им варварский русский язык.
Читать дальше