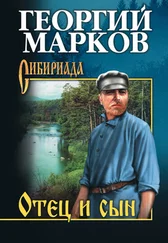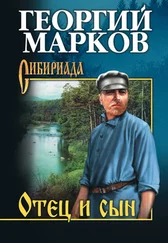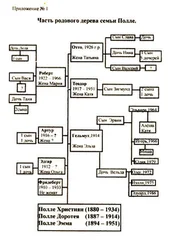Так что, пока все было хорошо.
в ней повествуется о первой поездке царевича Алексея Петровича в Европу, его учебе и женитьбе
1
Гром грянул. Летом 1709 года. Громыхнул страшными раскатами из письма, которое отец прислал сыну. В письме значилось следующее: «Зоон! Объявляем вам, что по прибытии к вам князя Меншикова ехать в Дрезден. Меншиков вас туда отправит, и кому с вами ехать – прикажет. Между тем приказываем вам тако же, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали более к учению, а именно, языкам, которые уже учились – немецкому и французскому, так и геометрии и фортификации, а также отчасти и политическим делам. А когда геометрию и фортификацию скончишь, отпиши нам. Засим управи Бог путь ваш. Vater Peter».
Такое вот письмо. Настоящий гром с молнией. Хотя и невозможно представить дело так, будто Алексей Петрович ничегошеньки о предстоящих переменах не знал. Но уж что совершенно точно – так это то, что он этих перемен не хотел, страшился их, не готовился к ним и потому-то они его так напугали, хотя виду испуганного он, конечно, на людях старался не показывать. На людях надобно было собираться в дорогу и ожидать Меншикова. Только в кругу «своих» Алексей давал себе волю: плакал, даже рыдал, хватал себя за голову, и, не скрывая ужаса своего перед неизбежной уже теперь крутой переменой в жизни, спрашивал – то ли себя, то ли других… «Что же делать? Что же делать? Боже милостивый, что же делать?».
Но вразумительного совета поначалу никто из своих дать не мог. Все дружно вздыхали только. Выхода, казалось, не было.
И вдруг…
В то время, когда приказ отца был получен, но Меншиков еще не явился, – и мелькнула эта идея. Кем она была впервые высказана, Алексей Петрович сказать не мог. Не помнил. Помнил только когда она появилась: аккурат, когда ждали Данилыча. Но раз появившись, она уже никогда, до самого действа из головы царевичевой не уходила, а только силилась, росла и крепла, пока, наконец, не разрослась и не укрепилась настолько, что уже не о чем другом, кроме неё царевич думать не мог.
Он помнил, что сидели в сумерках и огня не зажигали… Кто? Может, Яков Игнатьич был… Не мог не быть, поелику рядом был всегда; Вяземский был, Кикин… А может Кикина еще и не было… Он хорошенько не помнил.
Так, значит, сидели у царевича. Он все вскакивал да садился. Или, вскочивши бегал вокруг стола: «Что делать, да что делать?»…
И вдруг – кто-то, а кто, повторяем, царевич не упомнил, – возьми да и скажи:
– Что делать, что делать?.. А ты – как выучишься – не возвращайся вовсе!
– Как это? – не понял сначала Алексей Петрович.
– А так… Спрячься. Народу там, слава Богу, много…Уезжай куда подале. И всё. И сиди там тихонько. И жди. А как батюшка во Бозе почиет, так ты и объявишься: «Вот, мол, я!».
Наступила тишина. Довольно долгая. И только после неё Алексей тихо ответил:
– Этого не можно. Этого не можно. Это измена. Этого нельзя.
Вот что было сказано. Больше вслух этот вариант еще долго не обговаривался. Но можно с очень большой вероятностью предположить, что вариант этот, повторим, в голове у Алексея Петровича угнездился. Не мог не угнездиться. И не только в его голове. Но и у других в головах угнездился тоже.
2
Петр был постоянно и плотно занят. Так что поговорить с сыном наедине, да еще душевно, – это надо было исхитриться. Да и то – не каждый день выходило. На что уже на это Марта была мастерица – бывали и у неё неуспехи.
Придет, бывало, хотя и в сумерках уже, а царская палатка – светла, как днем. И народу в ней, и накурено – ужас как. Сунется, бывало, а он досадливо ей: «Пошла, пошла прочь, дела у меня, не видишь, что ли?». Не зло, шутливо, но отказывал. И твердо. Бывало, что и заполночь далеко ожидать приходилось, и холод ночной до костей добирался.
Хотя в этот-то раз по-другому вышло. Повезло ей. Петру показали пленного шведского офицера. Допросили при нем. И он, Петр, как видно было, немало хорошего для себя узнал, потому как развеселился, велел принести вина, выпил и шведа пленного попотчевал. К нему-то, к веселому Петру и подластилась Екатерина:
– Можно к тебе, мин херц?
– Можно, можно. Нынче все можно! Входи! Вчера, скажем, было нельзя, а сегодня – можно… Что у тебя, сказывай?
– За перстенечек хочу спасибо сказать…
– За какой перстенечек? А, этот…. Полюбился он тебе?
– Еще как полюбился…
– Ну и носи на радость…
– Я не могу так…
– Как «так»?
– Балуешь ты меня. А тебе… чем я тебе, Великому Государю сподобилась, всего только пасторская прачка и… и драгуниха?
Читать дальше