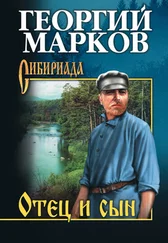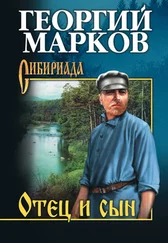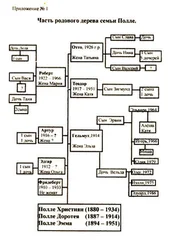– Плохо дело. – ответил Яков. – И по обыкновению своему для значительности сделал паузу и лишь помолчав, как водится, стал поучать – не громко, но четко проговаривая слова, зная, что так-то, вот, куда скорее до Алексея доходит:
– Бояться тебе на виду у батюшки никак нельзя. Никак. Он ведь опаслив без меры; как увидит, что трусишь, станет доискиваться до причины, ругать да стращать. Упаси тебя Бог, хоть кого-то назвать. Хоть даже меня. Палачи в Преображенском, сам знаешь, какие – любой заговорит. А ниточка потянется, всех вытащат. Худо будет. Ты помни: покуда царь ничего знать не будет, он тебя в наследниках, как сына своего держать станет по-прежнему. А как узнает… Как узнает, не видать тебе престола, как ушей своих. И еще хорошо, как в живых оставит. А то ведь загонит куда-нибудь… в Пелым, даст на прокорм полтину на неделю – будешь Бога благодарить день и ночь, что в живых оставили. А о нас-то уже и речи не станет.
– А ты… ты, разве не по своей воле в Суздаль-то меня возил? Спросил Алексей и еще подогнал через миг. Ну!
– Как же… по своей. Есть люди… И посильнее и повыше меня, которые о тебе день и ночь пекутся, думают, как тебя оборонить надежно от отцовского гнева.
– И зачем же меня к матушке возили?
– А что б ты матерь свою родную не забыл. А то ведь, поди, забывать стал?
– Да нет…
– А лукавить не след… Сколько лет прошло… Начал, начал забывать. Точно. Вот тебе память-то и обновили!
– А для чего.
– Что для чего?
– Я говорю – для чего обновили?
– Чтобы ты не забыл матерь свою рóдную…
– Врешь ты все отец Яков. Мне – матерь свою помнить сегодня – всё одно, что во сне медовые пряники кушать. Ведь она много лет, как монахиня. Её из монастыря воротить – как с того света. Врешь ты все, пес шелудивый. Не в матушке тут дело!
– А в ком?
– В батюшке, я чаю…
– Ну-ко, ну-ко… скажи дробненько, Алешенька…
–А!.. Семь бед – один ответ. Уж ты-то точно с доносом не побежишь…Не побежишь?
– Что ты, Алешенька… Да я, коли час придет, на дыбе смерть приму лютую, а тебя, голубчик мой, не выдам. Так почему в отце дело-то?
– В нем дело-то все только и есть. Для престола меня берегут? Вестимо, для престола, так? Так! А чтобы мне его предоставить, коли час придет, надо либо дождаться пока батюшка… почиет в Бозе, либо…
– Никакого другого либа нету. Нету и нету.
– Есть! Сказать?
– Не надо, Алешенька… Не гневи Бога.
– Стало быть, смерти ждем?
– И об этом тоже ни говорить громко, ни даже думать сейчас много нельзя…
– Неужли, и ты, отец Яков, боишься?
– Боюсь… И ведь только человек, Алешенька. Кости и кожа у меня не железные. Посему надобно ждать. Затаимся так, что шевелиться вовсе не будем Но ведать надобно все. А нынче – более всего надобно ведать. Знает ли батюшка про Суздаль что новое или нет, а коли знает, т о как узнал?
– А как проведать?
– Есть у меня мыслишка…
– Какая?
–Отпиши письмецо…
– Кому?
– А вот тут – подумать надо. Я чаю – лучше всего – тетушке своей Екатерине Алексеевне. Пожалься, что, вот, мол, батюшка в письме на меня гневается сильно, а за что – понять не могу, а дознаться – не у кого. «Явите, – напиши, – божескую милость, если ведаете, отпишите мне, за что, мол, батюшка на меня сердится, а вины за собой я не знаю». Разжалобишь старушку – может, и проговорится. Остальное мы додумаем.
– Мало. – сказал Алексей.
– Чего мало?
– Мало одного письма. Надобно писать и бабушке, Анисье Кирилловне.
– Вот-вот. А она тебя любит, сказывают. Пиши обоим. И слезу, слезу дави, не скупись.
27
И Алексей написал. Одно письмо обоим. Поскольку жили обе старушки в Кремле любезными соседками.
Написал, что, мол, батюшка на меня гневается, а за что – не ведомо. «Прошу вас, пожалуйте, осведомясь отпишите, за что на меня есть государя-батюшки гнев, понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за безделием, отчего я в великом сумлении и печали».
Но тетушка и бабушка – смолчали, как в рот воды набравши. И ясно, почему. Они тоже – как огня – боялись брата и племянника.
28
Безуспешно прождавши два месяца, Алексей написал еще одно письмо – новой жене Петра, которую велено было именовать Екатериною Алексеевною, но про которую многим было известно, что никакая она не Екатерина, а Марта; и роду была чуть ли не подлого.
Подробности ее жизни кого угодно могли повергнуть в изумление, и повергали. Прачка в доме лютеранского пастора, она была «взята на штык» русским солдатом во время штурма Мариенбурга в качестве трофея. Говорили, что она уже была замужем за неким шведским драгуном, но где этот ее муж-драгун, она сказать не могла или вовсе не хотела. Как видно, своим новым положением пленница русского солдата удручена особенно не была, тем более, что у солдата ее выкупил офицер. У офицера – еще один офицер, а уже у т о г о, как говорили, – сам Борис Петрович Шереметев. От Шереметева она и попала к Петру.
Читать дальше