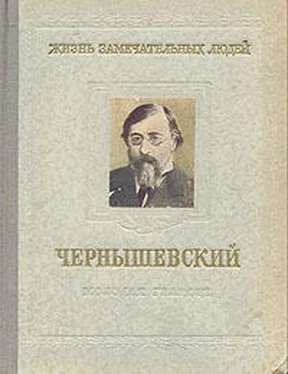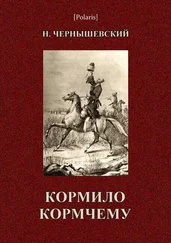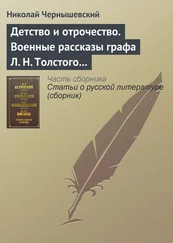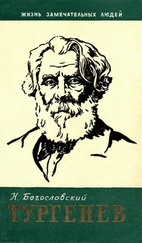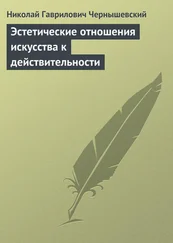Привычка к чтению превратилась у него в настоящую страсть, что вызывало протесты со стороны бабушки и, напротив, молчаливое поощрение со стороны отца. Гавриил Иванович считал, что благодаря усиленному чтению у мальчика вырабатывается хороший слог в переводах. «Удивительно, как Коля чисто по-русски передает мысль греков», – замечал иногда Гавриил Иванович.
С уроками, заданными отцом, мальчик справлялся очень быстро, а затем уходил играть на улицу или садился читать, а то играл в шашки с бабушкой Пелагеей Ивановной, которая за доскою передавала внуку так хорошо запомнившиеся ему рассказы о старине.
5 сентября 1836 года Гавриил Иванович определил сына в духовное училище. Последовало, в сущности, лишь формальное зачисление его в списки учеников духовного училища, с оговоркою, что он имеет право не посещать школу, занимаясь дома, и обязан лишь держать экзамены.
Гавриил Иванович стремился уберечь сына от тягостных впечатлений, какие тот мог бы вынести из училища, где укоренились грубые нравы, телесные наказания и бессмысленная зубрежка.
Училище помещалось в грязном, запущенном двухэтажном здании на площади против Троицкого собора и старого Гостиного двора. Зимою школа плохо отапливалась, ученики сидели на уроках в пальто и в полушубках. Гавриил Иванович знал, что ректор училища склонен к пьянству, что преподаватели, жившие тут же в общежитии при училище, невежественны и грубы. Он рассудил, что разумнее обойтись без помощи такой школы.
Мальчик проявлял исключительную любознательность, был чрезвычайно памятлив, сообразителен и все, что усваивал, усваивал прочно и основательно.
Предполагалось, что ему предстоит духовная карьера. Его готовили к семинарии. Латынь и греческий язык составляли основу семинарского образования. Этим языкам и уделил особое внимание Гавриил Иванович в своих занятиях с сыном.
Правда, заниматься приходилось урывками. «Когда ему учить Колю? – жаловалась мать. – Придет из церкви, полчаса поговорит с ним, велит ему написать по-гречески и уйдет в консисторию, а Коля сядет за книгу, напишет и уйдет играть». Но и самостоятельный интерес у Чернышевского к языкам обнаружился с самых ранних лет, хотя не легко и не просто было удовлетворить жажду знаний, живя в глухом провинциальном городе, «в кругу священников и дьяконов». Семья его не была настолько обеспечена, чтобы дать ему воспитание, какое получали тогда дворянские дети, окруженные гувернерами и домашними учителями. Он сам проявлял инициативу и изобретательность. Так, познакомившись случайно с персом, торговавшим фруктами, Чернышевский предложил ему уроки русского языка, с тем что сам будет учиться у него персидскому. По окончании торговли перс этот являлся в дом к Чернышевским, сбрасывал на пороге туфли, усаживался с ногами на диван, и начинались занятия, к которым мальчик относился с чрезвычайной серьезностью.
А.Н. Пыпин вспоминает: «Кажется, очень рано он был хорошим латинистом; мне ясно припоминается он за чтением латинской книги… Это было старое, первых годов семнадцатого столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю».
Систематически учиться французскому языку Чернышевскому не пришлось. Он перестал посещать частный пансион, заметив, что товарищи посмеиваются над его произношением. Но, отказавшись от посещения пансиона, он усердно занимался сам. По-немецки двоюродные братья начали учиться вместе у немца-колониста Грефа, учителя музыки, согласившегося давать детям уроки немецкого языка взамен уроков русского, которые он брал у Гавриила Ивановича.
По уцелевшим ученическим тетрадям Чернышевского видно, что еще до поступления в семинарию он изучал латинский и греческий языки, зоологию, естественную историю, геометрию, русскую грамматику и теорию словесности, историю, географию, немецкий и французский языки, делал переводы со славянского на греческий и с греческого на русский. После же поступления в семинарию к этому, помимо общесеминарских предметов, прибавились занятия персидским, арабским, древнееврейским и татарским языками
От первых несложных стилистических упражнений для выработки слога он перешел через несколько лет к переводам из Корнелия Непота, Цицерона, Тита Ливия.
Наряду с обязательными занятиями – чтение. «Библиофаг, пожиратель книг», он «читал решительно все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул».
Читать дальше