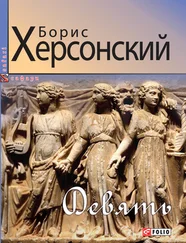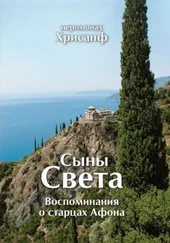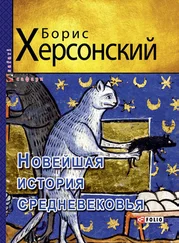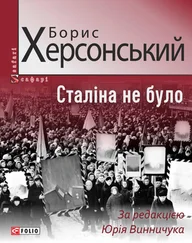— До сих пор студия, верная учению Станиславского, упорно добивалась овладения мастерством переживания. Теперь, верная учению Станиславского, ищущему выразительных форм и указавшему средства (дыхание, звук, слово, фраза, мысль, жест, тело, пластичность, ритм — все в особом театральном смысле, имеющем внутреннее, от природы идущее обоснование), — теперь студия вступает в период искания театральных форм. Это наш первый опыт в поисках сценических форм для сценического содержания (искусства переживания). Опыт, к которому направили наши дни — дни революции.
И каждое мгновенье во время репетиций ему приходится вести сложную, настойчивую борьбу с драматургом, с актерами, с традициями и, наконец, с самим собой, с тем, как он работал раньше. Я присутствовал на последних предгенеральных и генеральной репетиции «Эрика»… Не знаю ничего прекраснее в жизни театра, чем эти так называемые «адовые» репетиции, когда мысль, энергия, все существо режиссера и актеров напряжены до предела в стремлении слить воедино и до конца непосредственную жизнь с произведением искусства, вдохнуть исчерпывающую правду и естественность в каждое внутреннее и внешнее движение на сцене и придать сценическому действию совершенную, точную и тонкую художественную форму.
В Москве в зиму 1920/21 года кипит пестрая, трудная, напряженная жизнь. Шумит, дышит весь в движении большой город. Но кажется, его будни прозаичны, однообразны, они бледнеют по сравнению с тем, что происходит в студии…
На крохотной сцене вполголоса репетирует Михаил Чехов, остальные действующие лица только аккомпанируют ему. Все существо Чехова необычайно сосредоточено на переживаниях Эрика, на быстром изменении его настроений, капризном движении мысли. В то же время Чехов весь чутко обращен к зрителю, прислушивается к нему, как бы беседует с ним, мысленно ловит его невысказанные реплики. Зритель один. Между ним и Чеховым туго натянутые невидимые нити. Этот зритель — Вахтангов. Какой же он умный, внимательный, чуткий, талантливый, вдохновенный зритель! Вот он прерывает репетицию и мгновенно подсказывает что-то одним-двумя словами, реже объясняя. Здесь понимают друг друга с полуслова. Иногда достаточно короткого жеста или интонации, чтобы мгновенно осветить очень многое, связать сложный ряд ассоциаций и чувств в единую цепь. Все дальше вглубь, все точнее и выразительнее раскрывается процесс мышления Эрика: как прихотливо и вместе с тем с неумолимой внутренней логикой в его сознании отражается происходящее в действительности, как он осмысливает то, с чем сталкивается, и как живо реагирует. Наглядная иллюстрация в действии, как душевная жизнь человека идет не по прямой линии, а со множеством отклонений, переливов, переходов, противоречий, с неожиданными взлетами и падениями…
Чехова, по самой природе его психической конституции, тянет перевести роль в план неврастенический, патологический, к чему располагает и Стриндберг. Вахтангов старательно направляет Чехова в иной план: к объективно логичному поведению, когда любые неожиданные капризы и внезапные порывы и решения Эрика оказываются ясно обоснованными, самое непоследовательное в нем оказывается убедительно последовательным даже для здорового человека, оправданным железной, всем понятной логикой. Это различие очень существенное! Человек, впадая в истерику, действует, как в тумане, он не ведает, что творит. Решения приходят к нему по наитию, часто вовсе вздорные. Вахтангов добивается, чтобы предметом исследования был не клинический индивидуальный случай, а судьба монарха, неумолимо раздираемого непримиримыми условиями его положения. На месте Эрика мог быть, повторяю, любой другой, пусть совершенно здоровый человек, и с ним повторилось бы почти то же самое. Душевная изощренность Эрика интересна Вахтангову не своей уязвимостью и расстройством, она интересна и ценна в спектакле, потому что помогает всем понять: на его месте непременно измучился бы и пришел к моральной гибели всякий, в ком не утеряна живая человечность.
Предметом искусства под руками Вахтангова становится не истерика (она вообще не предмет искусства), а подлинная человеческая трагедия. Трагедия короля, с одной стороны, и «простого» народа в государстве, возглавляемом деспотом, — с другой. Трагедия, обусловленная бесчеловечностью монархизма.
Репетиции Вахтангова захватывают всех участников именно потому, что они полны борьбы за преодоление противоречий в творчестве драматурга и столкнувшихся с ними навыков, сложившихся в мировоззрении и в индивидуальностях актеров. Идет борьба действительно за новое искусство.
Читать дальше
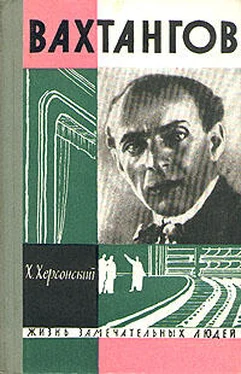


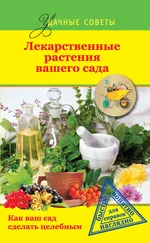

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)