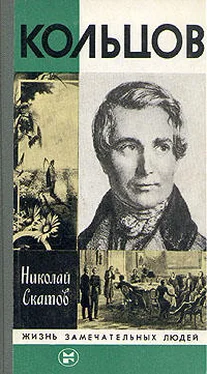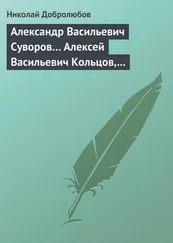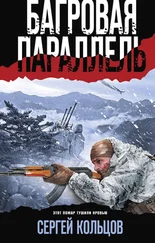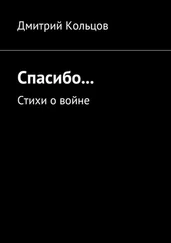Умом легко нам свет обнять;
В нем мыслью вольной мы летаем;
Что не дано нам понимать —
Мы все как будто понимаем.
И резко судим обо всем,
С веков покрова не снимая;
Дошло, – что людям нипочем
Сказать: вот тайна мировая!
Вряд ли Кольцов всего через каких-нибудь два месяца «дошел» до того, чтобы сказать «вот тайна мировая» такими стихами:
И сердца жизнь живая,
И чувств огонь святой;
И дева молодая
Блистает красотой!
Это последние строки думы «Не время ль нам оставить». Кроме того, нужно учесть еще одно обстоятельство. Кольцов, видимо, не считал «Не время ль нам оставить» думой и сам ее так не назвал. Заглавие «Дума» в рукописи поставлено рукою Белинского. Оно довольно точно говорит о философской эволюции самого Белинского, проделанной к 1843 году (стихотворение «Не время ль нам оставить» было напечатано после смерти Кольцова в «Отечественных записках» в 1843 году), но из этого еще не следует, что эволюция Кольцова к 1842 году, когда оно было написано, совершалась подобным же образом. Потому-то последней думой Кольцова, им самим так названной, была дума «Жизнь». Приходится сказать, что и общий характер думы «Жизнь», и обязывающее и обобщающее ее название позволяют именно о ней судить если не как об итоговом, то, во всяком случае, как о программном стихотворении Кольцова – вопросы, в ней поставленные, проходят, начиная от «Великой тайны», по сути, через все думы Кольцова.
Как свет стоит, до этих пор,
Всего мы много пережили;
Страстей мы видели напор;
За царством царство схоронили.
Живя, проникли глубоко
В тайник природы чудотворной:
Одни познанья взяли мы легко,
Другие – силою упорной…
Но все ж успех наш невелик.
Что до преданий? – мы не знаем.
Вперед что будет – кто проник?
Что мы теперь? – не разгадаем.
Один лишь опыт говорит,
Что прежде нас здесь люди жили, —
И мы живем, – и будем жить,
Вот каковы все наши были!..
«Любовь к жизни, – писал о Кольцове Валериан Майков, – во всей ее обширности составляла основу его личности и выражалась в его поэзии».
Думы Кольцова еще одно яркое и убеждающее подтверждение такой обширности.
Подобно этому можно было бы сказать, что любовь к литературе во всей ее обширности составляла основу личности и выражалась в его письмах.
Из писем Кольцова видно, каким мог бы он быть да, в сущности, и был литературным критиком. Прежде всего Кольцов отчетливо представлял себе движение русской журнальной и литературной мысли своего, и не только своего, времени. «Сын отечества» и «Телескоп», «Московский наблюдатель» и «Современник», «Русский вестник» и «Библиотека для чтения», «Маяк» и «Пантеон», «Москвитянин» и «Отечественные записки»… Пушкин и Гоголь, Лермонтов и В. Одоевский, Константин Аксаков и Белинский, Шекспир и Байрон, Вальтер Скотт и Фенимор Купер – круг его раздумий и оценок.
Здесь в полной мере проявилось то, что определил в Кольцове А. Станкевич как «широкую русскую способность откликаться на впечатления жизни». В Кольцове не было и тени заскорузлости и провинциализма. В литературе второй половины 30-х годов XIX века, кроме Белинского, немного было людей, судивших о литературе столь верно. Самые маститые критики той поры хоть на чем-нибудь да срывались: не на Пушкине, так на Гоголе, не на Гоголе, так на Лермонтове. В своих письмах Кольцов дал десятки критических характеристик – и ни разу не сделал промаха. Так, «в поэзии Жуковского он, – по словам того же А. Станкевича, – уже видел недостаток оригинальной силы и самобытного творчества». И это задолго до известных статей Белинского. И даже Некрасов только в 1855 году напишет: «Перечел всего Жуковского – чудо переводчик и ужасно беден как поэт».
Время подтвердило точность не только тех или иных суждений Кольцова, но всей иерархии его эстетических оценок. Проще всего вроде бы предположить, что такая система его взглядов сложилась под влиянием Белинского. Первым, кто признавал здесь громадное влияние Белинского, был сам Кольцов, но он отнюдь не был наивным, глядящим в рот учителю учеником, решительно мог противостоять отдельным суждениям критика. По поводу повести Кудрявцева «Флейта», неоднократно Белинским хвалимой, Кольцов недоумевал: «Да расскажите, бога ради, почему „Флейта“ хороша, два раза читал – не понял…» Белинский понял позднее, почему «Флейта» не так уж хороша.
Читать дальше