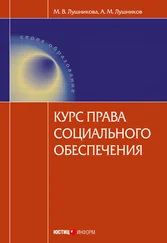Хотя герой романа, философ Элпидий, судя по всему, знаком с Библией, но его знание не приносит до поры до времени достойного плода, он подобен сановному Эфиопу из «Деяний Апостолов», который читает книгу пророка Исайи и ничего в ней не разумеет. Читает без разумения Элпидий Книгу Жизни долго, пока не появляется на страницах романа бывший сенатор, христианин Датиан, как в «Деяниях апостолов» рядом с Эфиопом – апостол Филипп.
Астрология, гадания, заговоры, любовная магия, культы Митры, Сераписа, Гелиоса – все идет в дело при строительстве вавилонской башни новой религии, которую строит Ямвлих со своими учениками в священной роще Дафны около Антиохии. Ямвлих называет эту новую религию теургией.
Замечательный русский философ Алексей Лосев дал сдержанное, но ясное определение теургии. Теургия, по словам Лосева, «есть приобщение к самой природе божества, когда человек сам становится демиургом и творит то, что творится только божеством, то есть прямые чудеса».
То, что Ямвлих и его ученики именовали теургией, Лосев называл практической мифологией.
Но насколько действенна эта практическая мифология Ямвлиха? Вызывание из воды Эрота и левитация, как пишет Евнапий, – это теургия? На фоне полной драматизма жизни людей, описанной в романе, – христиан и язычников, бедняков, царедворцев, императоров – теургия Ямвлиха и Элпидия выглядит детской забавой. И только личная трагедия, поиск любящего сердца и истинного Пути возвращает философа из пассивной мечтательности в реальную жизнь.
«Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки Тот же», – повторяет вслед за апостолом Павлом герой романа, язычник Элпидий. А если это так, то что тогда значит для истории триста лет, отделяющие героя от исторического Иисуса? Если Бог христиан – Творец всему, неизменен и сущ вовеки, то тогда уже и сама история – полова, думает Элпидий. Тогда уже, наверное, и две тысячи лет после Рождества Христова в Свете Вечного – одно мгновение. Тогда уже и для нас, ныне живущих, как и для героя романа, прошлое становится настоящим, прорастающим ростком надежды в грядущее.
Алексей Григорьев
Пир у Ямвлиха Халкидского, 19 июля 314 года
Через тернии – к звездам, или через терние – и к терновому венцу? Или же вырастет терние и заглушит посеянное в сердце твоем, человек? Что ты выберешь в настоящем, которое есть непреходящее прошлое? И что ты выберешь в прошлом, которое есть бесконечное сегодня?
Сегодня на востоке в дрожащем утреннем эфире ранние пташки сирийской Антиохии увидели яркую звезду. И это блистал Сириус – звезда волхвователей и магов. Наступало урочное время для пиров и жертвоприношений. Божественный Ямвлих Халкидский, великий магистр учений Востока, теург и философ, велел рабам приготовить все для жертвы в его загородном доме, куда пригласил он на пир всех своих лучших учеников.
Ямвлих был аккуратно стрижен, с жесткой седой бородой со следами от частого гребня, как будто он только что вышел от дорогого цирюльника. Как вяз – высокий и сухой, в длинной льняной тунике с широкими рукавами, с некой лукавой тайной в карих глазах, с черными, будто горелые зерна кунжута, крапинками, он шествовал к себе в предместье в святилище Дафны, окруженный преданными эпигонами. А шли на пир к теургу любомудрью Сопатр Апамейский и Феодор Асинский, братья Эдесий и Евстафий из Каппадокии, афинянин Евфрасий и сын красильщика Элпидий из приморской Селевкии – самый юный его ученик, едва расставшийся с отроческой беспечностью. Ямвлих относился к нему по-отечески, как Сократ к Алкивиаду.
Сопатр Апамейский, видать, в знак того, что уже вкусил таинства восточных мистерий, красовался рядом с Ямвлихом в высокой персидской шапке-тиаре. Каппадокийские братья были в одинаковых потертых плащах странствующих философов. Евфрасий – в длинном украшенном египетскими узорами одеянии, а юный Элпидий, сохранивший еще между густыми черными бровями детское удивление, – в короткой алой тунике, выкрашенной краппом в его фамильной красильне.
Выйдя рано утром из Антиохии, Ямвлих неторопливо шествовал по проселку среди виноградников между горой Сильфий и высоким берегом полноводного Оронта и беседовал с учениками о магии и теургии. Тон беседе задавал желчный Феодор Асинский. Он двигал острыми выскобленными скулами так, как будто колол зубами орехи:
– Учитель, как ты отнесешься к тому суждению, что магия – сомнительное дело? Не глупцы же говорят, что приворот замужней, или заговор стрелы убийцы – все это принуждение богов делать зло.
Читать дальше
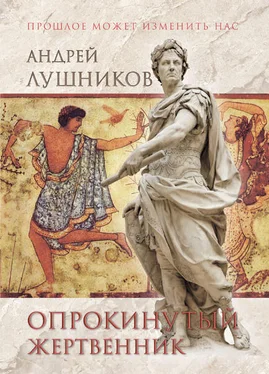

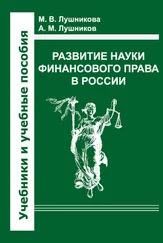



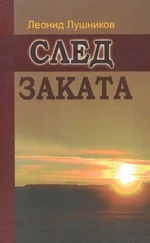
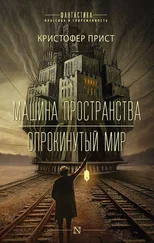
![Андрей Лушников - Красная Луна [СИ]](/books/411146/andrej-lushnikov-krasnaya-luna-si-thumb.webp)
![Кристофер Прист - Опрокинутый мир [litres]](/books/428607/kristofer-prist-oprokinutyj-mir-litres-thumb.webp)