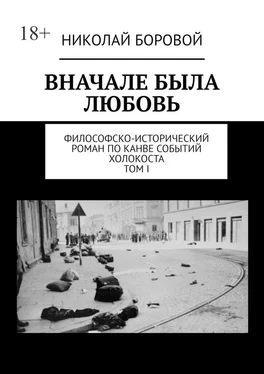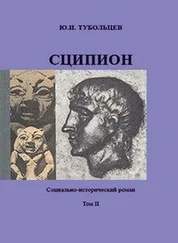Одиночество пана профессора, столь не принятое ни в академическом, «богемном» кругу, ни вообще у его сограждан, будь они хоть ортодоксальные евреи, хоть поляки из ревностных католических семей, давно обросло легендой. Вправду – одно дело, если бы речь шла о человеке, невзрачном внешностью и сутью, но тут-то дело другое, совсем другое! Разное поговаривали… о всяком в разное время перешептывались… И «новомодные теории» сделали свое дело, внесли в восприятие массивной и одинокой фигуры пана профессора лепту немалую – какие подчас невероятные, не имеющие отношения к действительности вещи, рассказывались за легендарной же, чуть ли не заслонявшей просвет в университетских коридорах спиной! Но пан профессор был человеком вдохновенным, талантливым и значимым, способный испугать или даже отвратить внешним видом, громоздкой фигурой и напором в общении, как цирковой маг или гипнотизер он заставлял забыть обо всем чуть ли не первыми словами своих лекций и книг, настоящее и подчас трагическое бурление мысли, которым он жил, и напряженная внутренняя работа, оное порождавшая, вовлекали и побуждали всякого слушающего задаваться вопросами и пытаться чем-то из глубины себя отвечать, Университет ценил его, интеллектуальные круги Европы – начинали замечать, и персону пана профессора в конце концов принимали такой, какова она есть: одинокой, странной, экстатически и надрывно вдохновенной, зачастую откровенно цурающейся самых простых житейских вещей и радостей.
Вспоминая по пути к Кракову подробности совершившегося ночью, такого в общем житейски банального, но своей правдой загадочного события, пан Войцех был поражен именно тем, что при всей поэтической страстности произошедшего (ожидаемой от женщины в расцвете лет и красоты, но несколько удивительной для сорокалетнего мужчины, грузного верзилы, в шевелюре которого начинает пробиваться седина), он не испытывал ощущения неискренности произошедшего, какого-то чувства стыда или нравственной нечистоты, нравственного преступления против самого себя, всегда настигавшего его во время, как он говорил, «грехов молодости», так безоговорочно и мощно его от этих грехов отвратившего. Вот-вот – в этом всё и дело: искренность! Простая человеческая, личностная и нравственная искренность. И близость – личностная, нравственная. Лишь ставшая в покрытые мглой и тайной совершающегося, одурманенные прохладой и запахом яблоневого сада мгновения полной и потому – какой-то чудесной, невероятной и дарящей вот то чувство счастья, которое безраздельно правило им. Философ остается философом и в эти мгновения. Он просто слился с человеком, которого узнал и полюбил, обрел – как обретают жизнь, видение истины, ощущение пути. Слово «истина» – не пустой звук для пана профессора, оттого-то и ходят легенды о той ярости, с которой он подчас ведет академические дискуссии о предметах, кажущихся далекими вообще от всяких чувств. И слово «путь» – тоже. Он доказал это в семнадцать, хлопнув дверью старого родительского дома в Казимеже, намертво решив, что будет жить иначе и пойдет иным путем, нежели предписывает ему «святая традиция предков»… Ох, как же нелегко пришлось ему на этом «ином» пути, но всё достигнутое паном профессором говорит, что и сам путь, и решимость на оный не были пустым звуком. И вот, события последнего времени показали, что слово «любовь», так часто произносившееся им в своих мыслительных построениях, но не становившееся реальностью чувства и внутреннего опыта, тоже – не пустой звук для него и не абстракция из философских рассуждений, какой была для Спинозы, да и не только. Пан профессор, туманным утром 1 сентября 1939 года неторопливо въезжавший в краковское предместье Клепаж, просто был заполнен ощущением счастья и удивительного, правдивого чувства любви. Он любил, обрел, по настоящему встретил близкую ему женщину. И был любим. Он был в этом уверен. И его широкое лицо, в привычной жизни как правило служившее полотном, запечатлевающим и бурление мысли, и сонм множества сложных чувств, нынешним утром выражало одно и очень простое, человеческое, подчас кажущееся недоступным – счастье…
Очень многое конечно же делало пана профессора счастливым в течение лет жизни – творчество и вдохновение, радость от воплощения важных и сложных замыслов, накал и серьезность дискуссий, возможность отстоять или по крайней мере хотя бы высказать в них нечто значимое, борьба за подлинные и святые вещи и неожиданный, кажущийся невероятным успех в ней. Да само осознание истины, всегда кажущееся чудом и похожее на вдохновенный, уносящий и грозящий если не сжечь или разорвать, то уж точно целиком поглотить экстаз! Многое, правда. И подчас с исключительной силой. Без творчества человек вообще навряд ли может быть счастлив – власть времени и смерти, застывшая в этом случае в его жизни и глядящая глумливой ухмылкой чуть ли не каждого дня, лишит его права на счастье, истерзает его душу ядом отчаяния и горечи. Пан профессор исповедует эту истину не один год. И знает о ней из опыта кажется с юношеского пушка на щеках. И конечно, счастье дарили свобода и достоинство, уважение настоящих и стоящих внимания людей, жизнь в согласии с совестью и самим собой, особенно – добытые в испытаниях и борьбе, доставшиеся по праву. Однако, еще никогда в его жизни ощущение счастья, чувство покоя и согласия с миром, удовлетворенности мгновением и существующим положением дел и вещей – подобное вообще гостило в его душе необычайно редко, не было настолько всеобъемлющим и пришедшим кажется до скончания времен. И причиной была его Магда – сама по себе похожая на сказочное чудо, до трепета любимая и сегодняшней ночью ставшая с ним одним целым… даст бог – судьбой и жизнью и уже навсегда. Счастье заливало пана профессора и безраздельно царило в нем, ибо он не просто любил и был любим, а нынешней ночью позволил любви торжествовать и править бал, прочно и навсегда, как он надеялся, прийти в его судьбу и занять в ней то место, которое пожелает. Потому что каких-нибудь жалких девять часов назад чудо и таинство любви, неожиданно и почти невероятно, но властно пришедшее в его жизнь с минувшего Рождества, обрело несомненную и полную разделенность, стало слиянием с любимым человеком до конца. В его жизнь и судьбу пришла женщина, близкая и дорогая ему так, что кажется – никаких слов из Мицкевича или Байрона не хватило бы передать это, которой он отныне желал жить даже более, чем его книгами, идеями, творческими порывами и планами и всем прочим, чем в основном был привычен жить до сегодняшнего утра. Счастье было в возможности жить глубокими и вдохновенными мыслями этой женщины, ее поразительным талантом и красотой, казавшейся лишь отблеском ее души и человеческой сути, ее планами и порывами, бурлящими в ней возможностями и силами, да кажется одними только ее ритмичными и уверенными шагами, которыми уже столько месяцев она привычна подниматься по лестнице в его апартаменты на Вольной Площади. И вот – с сегодняшней ночи это счастье становилось реальным и доступным, обещающим воцариться навечно. И перед этим всё как-то само собой отступало на дальний план или вообще исчезало, а мир с его тревогами должен был либо пойти к черту, либо на крайний случай пожелать пану профессору того же, что итак сейчас переполняло его – счастья.
Читать дальше