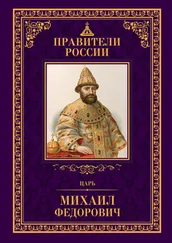– Ха, ха, ха!.. именно Филемон и Бавкида.
– А я спою им величанье, – вмешался Ультим и затянул деревенскую песню умышленно гнусавым, старческим фальцетом:
Ликуйте, Музы, Грации!
Столетний Филемон
С возлюбленной Бавкидою [7]
Тут будет обручен.
– Зубоскалы!.. – огрызнулся свинопас, замахиваясь палкой на Ультима.
Молодой весельчак, как прежде его сестра, поймал нижний конец дубинки и заставил старика вертеться с ним, приговаривая «мели, мели, мельница!», пока у того не закружилась голова.
Балвентий, как в первый раз, бросил палку и шлепнулся на пол, но теперь он зажал себе глаза, чтоб не видеть вертящейся комнаты, летящей со всею мебелью и людьми в пропасть, и еще сердитее повторял:
– Зубоскалы!.. зубоскалы!..
Ультим надел ему на голову, чего старик даже не заметил, свернутый раньше колпак со свиными ушами; Грецин у стола, уставленного для ожидаемых гостей яствами и напитками, тоже для самого себя незаметно, принялся от безделья тянуть вино маленькими глотками, покатываясь от смеха, и вторил пению сына. Вераний, тоже отхлебнув за здоровье «столетнего жениха», составил импровизированную эпиталаму:
О, Купидон!..
Здесь Филемон
Старец влюблен...
Силой Пикумна,
Силой Пилумна,
С милой Бавкидой
Соединен!..
И все, кроме Тертуллы и глупо на все глядевшего Балвентия, запели:
– Соединен!.. соединен!..
– Да с кем же? – спросила Тертулла от печки, укладывая на блюдо последнее готовое кушанье, великолепного жареного гуся, окруженного мелкими птичками; она смеялась, забыв свою болезненность, увлеченная заразительностью общей шутки, но не будучи ни пьяною, как ее муж и Вераний, ни глупою, как свинопас, ни наивною, как ее дети, старуха ясно сознавала все происходящее в тех его сторонах, какие ускользали от молодежи.
Тертулла видела, что наружный ставень превращенного в печурку окна снят и в него глядит вернувшийся Прим с работниками и несколькими поселянами, пришедшими на свадьбу.
– Да с кем же, с кем? – добивалась она узнать, – с кем обручаете Балвентия?
– С овдовевшей Стериллой, матушка, – ответил ей хохочущий Ультим.
Он быстро набрал букет из валявшихся по полу цветов, посыпал его взятым со стола перцем и поднес Балвентию, все еще сидевшему на полу в сердитом настроении от своего бессилия против общих насмешек.
Тертулла впилась в него взглядом хищной совы; руки ее дрожали до такой степени, что она с трудом донесла гуся от печки на стол и подошла к свинопасу. Она поняла, чем грозит закончиться эта шутка.
– Подари это своей невесте, дед, – говорил Ультим, – понюхай прежде сам, хорошо ли пахнет.
Тяжело дышавший усталый старик невольно втянул в себя струю воздуха, а с нею и «аромат» букета, приставленного разыгравшимся придурковатым юношею вплоть к его носу, и... Ультим с комическим ужасом отскочил от него прочь, крича:
– О, Грации и Музы!.. Что за диковина!..
Свинопас стал чихать один раз за другим без перерыва, силясь ругаться на проделку насмешника.
– О, боги!.. Что это такое?! Чхи!..
– Это тебе от Пикумна и Пилумна [8]в подтверждение твоей помолвки, дед, – ответил Ультим.
– Будь здоров, веселый жених! – прибавил Вераний, подходя к Балвентию с налитою чашей.
– Будь здоров! – забасил Грецин от стола, полагая, что это относится к помолвке его дочери с Веранием.
Амальтея тряслась истерическим смехом, опираясь руками о плечи брата, говоря:
– Дурак!.. Что ты с ним сделал!..
Балвентий никак не мог прийти в себя.
– Это... ачхи!.. Это пер... перец... ааачхи!.. Это... ну те в трясину!.. Задери тебя медведь... чхи!.. чхи!..
Его глаза налились кровью от чиханья и злости, которая в течение этого вечера кипела, кипела и наконец перекипела через край.
На лавке около Грецина лежали огромные кузнечные клещи, употребленные им вместо затерявшегося молотка для прибивания гирлянд к столу. Свинопас схватил это орудие, величиною достойное рук самого Вулкана, и в ярости нервного напряжения замахнулся на Ультима, заорав:
– Озорник!.. Разможжу тебе голову!..
Смеявшиеся моментально умолкли, потому что знали, что Балвентий, в иные времена, когда ого чересчур раздразнят, бывал дик и становился силен, как лесной кабан; его терпению, миролюбивой покорности, даже свиноподобной глупости, был свой предел, за которым открывалась общечеловеческая натура со всеми страстями.
Грецин хотел удержать сзади за руку выведенного из себя старика, но, оттолкнутый им, попятился со страха перед клещами, насаженными на длинные деревянные рукоятки, держимыми стариком наотмашь.
Читать дальше