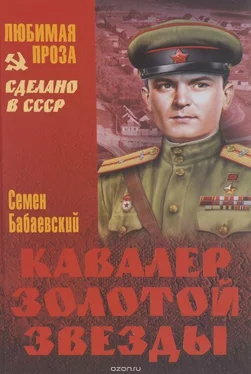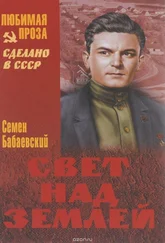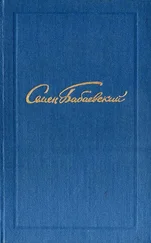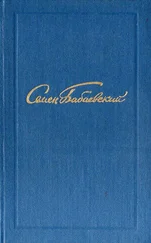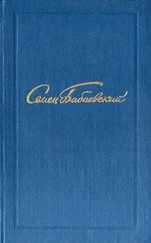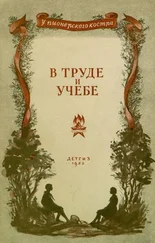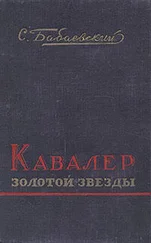Степные дороги и тракты берут начало в станицах, хуторах, ущельях, на горных пастбищах и в лесопитомниках, скрещиваются в «белом городе», — такой увидел столицу степного края еще Сергей Тутаринов, — и разбегаются вновь, но каждая из них ведет в такой же привольный мир героев С. Бабаевского.
Всадник в бурке и папахе, скачущий по горной дороге, по степи или с неспешным достоинством продвигающийся по шоссе среди повозок и машин, с самого начала не смог затеряться даже в похожем иной раз на весеннее половодье потоке героев С. Бабаевского: и секретарь райкома Чердынцев в «Кубанских повестях», и предстансовета Прасковья Крошечкина в «Сестрах», и заведующий коневодческой фермой Иван Атаманов в «Кавалере Золотой Звезды», и редактор районной газеты Илья Стегачев в романе «Свет над землей». Разумеется, годы не пощадили и всадника, но, пожалуй, сделали его фигуру более приметной и значительной в последующих романах.
«На обочине шоссе в жарком мареве Щедров увидел всадника. Он держался поближе к кювету, ехал шагом, видимо, боялся, как бы обгонявшие его грузовики не сбили ветром коня. На асфальте, где хозяйничали одни машины, всадник выглядел непривычно и старомодно. От его кубанки с вылинявшим верхом до натянутых стремян и болтавшейся сбоку шашки веяло далеким прошлым, и Щедрову казалось, что уже не было ни шоссе, ни грузовиков, а только этот одинокий воин, отбившийся от своего отряда, маячил в жаркой степи» — таким вот и является в романе «Современники», написанном уже в семидесятые годы, старый кочубеевец, а ныне инспектор по качеству полевых работ в передовом колхозе «Эльбрус» Антон Силыч Колыханов. Секретарь райкома Щедров любит в нем не только боевого друга своего отца, героя гражданской войны, но и человека близкого по духу и складу, помощника и единомышленника в борьбе, наконец, своего современника. Потому так пристален и тревожен взгляд Щедрова, предчувствующего скорую и неизбежную разлуку: старый воин одинок, словно отбился от стаи, и вот-вот исчезнет в жарком степном мареве, как исчезли уже его сверстники, его боевые товарищи. Старый кочубеевец при всей своей зримой конкретности и психологической заостренности черт олицетворяет в романе неразрывную связь времен и поколений, играет в образной его системе особую роль и заставляет пристальнее и зорче вглядываться во всадников С. Бабаевского и задумываться над своеобразием путей познания истины, предлагаемой иной раз художником.
Вглядимся в двух уже немолодых путников, братьев Холмовых, что шагают в романе «Белый свет» (1969) в сопровождении старого кавалерийского коня по кличке «Кузьма Крючков», который и заставил братьев предпринять столь необычное путешествие. Кузьма отказался сдать коня на мясокомбинат «за ненадобностью и под расписку», и дело о непокорном табунщике приняло такой оборот, что дядей Кузьмой всерьез занялся племянник, старшина милиции, а Кузьма, явившись к именитому брату, бывшему секретарю обкома Алексею Фомичу, так изложил суть дела: «Ить, коня я сам вынянчил и взрастил… Ить, силком отбирают у меня радость!.. Огради от Ивана… Подсоби, братуха!»
Знаменательно и во многом символично в романе С. Бабаевского это взаимодействие двух контрастных, но равновеликих по значению образов. Алексей Фомич Холмов — бывший секретарь обкома, подобно Ивану Лукичу Книге, но в иных обстоятельствах переживает глубокий духовный кризис, когда, отказавшись выполнить «руководящую директиву», вынужден был оставить работу, но не унизился до озлобления и брюзжания, а взял в руки ленинские тома и крепко задумался над прожитым и содеянным, испытывая мощное воздействие ленинской мысли. Кузьма Холмов, выращивая под открытым небом лошадей, «словно прирос к земле» и мало искушен в тонкостях правопорядка, но, как и Алексей Фомич, не намерен мириться с тупоумием, ложью и бюрократическим бездушием. Недаром ведь герои С. Бабаевского — люди стойкие, убежденные в правоте общего дела, способные подняться над личной обидой и продолжить борьбу.
Кузьма Холмов, обремененный заботой об участи старого кавалерийского коня по кличке «Кузьма Крючков», существует в романе нисколько обособленно, хотя легко вступает в насущный, по-крестьянски несуетный контакт с людьми, а все трагикомические перипетии Кузьмы и его тезки на пути из Весленеевской в Береговой — встреча с племянником в ущелье, киносъемки на городской площади, ночевка в степи — описаны С. Бабаевским не только со смешанным чувством боли и гнева, но и с какой-то озорной удалью и с той безусловной психологической точностью, что заставляет верить в условность гротеска. Здесь явственно ощутима стихия фольклора, символика народного сказа, привносимая в роман образом Кузьмы, ведь и притча о Каргине и приключившейся с ним «опасной болезни на почве лишения власти» — это талантливое создание ума и фантазии народа, — тоже рассказана Кузьмой, и рассказана со значением. Зловещая тень Каргина то и дело появляется в романе, на миг сливаясь с тем или иным персонажем, она вездесуща и неуловима, чем особенно опасна.
Читать дальше