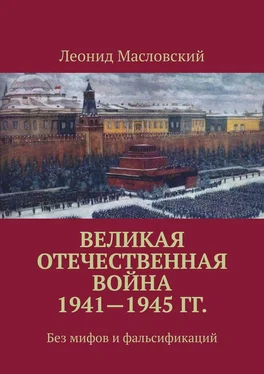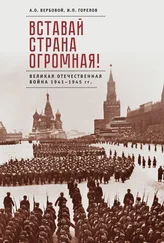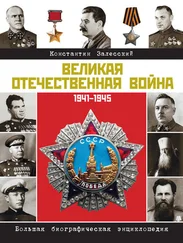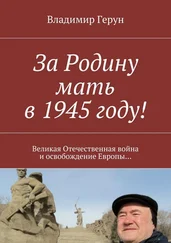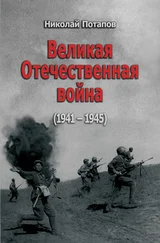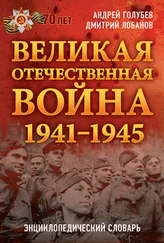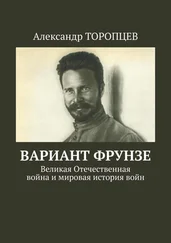Ещё СССР просил сдать в аренду участок земли для строительства у входа в Финский залив военно-морской базы. Советские выгодные для Финляндии условия не были ею приняты. Более того, финны вели себя вызывающе и провоцировали начало военных действий. Поведение ведущих европейских стран показывает, что именно западные страны толкали финнов на войну с СССР.
В своих воспоминаниях К. А. Мерецков писал: «26 ноября я получил экстренное сообщение, в котором сообщалось, что возле селения Майнила финны открыли артиллерийский огонь по советским пограничникам. Было убито четыре человека, ранено девять. Приказав взять под контроль границу на всём её протяжении силами военного округа, я немедленно переправил донесение в Москву. Оттуда пришло указание готовиться к контрудару. На подготовку отводилась неделя, но на практике пришлось сократить срок до четырёх дней, так как финские отряды в ряде мест стали переходить границу, вклиниваясь на нашу территорию и засылая в советский тыл группы диверсантов» [91, с. 177—178].
В связи с указанными событиями 28 ноября 1939 года правительство СССР денонсировало советско-финляндский договор о ненападении и отозвало своих дипломатических представителей из Финляндии.
30 ноября 1939 года войска Ленинградского военного округа перешли в наступление на Карельском перешейке. Но, конечно, провокации со стороны Финляндии являлись поводом, а не причиной наступления советских войск. Причина заключалась в стремлении СССР обеспечить безопасность Ленинграда и, можно сказать, всей северо-западной части СССР.
Но советские войска упёрлись в «линию Маннергейма». Генерал Баду, строивший эти укрепления, писал: «Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укреплённых линий, как в Карелии. На этом узком месте между двумя водными пространствами – Ладожским озером и Финским заливом – имеются непроходимые леса и громадные скалы. Из дерева и гранита, а где нужно и из бетона построена знаменитая «линия Маннергейма».
Величайшую крепость (неуязвимость – Л. М.) «линии Маннергейма» придают сделанные в граните противотанковые препятствия. Даже двадцатипятитонные танки не могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулемётные и орудийные гнёзда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона» [66, с. 46].
Но существует мнение, что в действительности «линия Маннергейма» была далека от лучших образцов европейской фортификации. Трудности, с которыми столкнулись советские войска, прежде всего, были связаны с отсутствием достоверной развединформации об узлах обороны «линии Маннергейма».
К. А. Мерецков пишет: «Перед началом действий я ещё раз запросил разведку в Москве, но опять получил сведения, которые позднее не подтвердились, так как занизили реальную мощь линии Маннергейма. К сожалению, это создало многие трудности. Красной Армиии пришлось буквально упереться в неё, чтобы понять, что она собой представляет» [91, с. 178].
В связи с отсутствием достоверных сведений, наступающие советские войска не были укомплектованы тяжёлыми осадными орудиями, способными крушить многометровые бетонные стены; орудиями, подобными тем, которыми немцы сокрушили французскую «линию Мажино».
Советские наступающие войска долгое время не могли понять, что по ним стреляют не только из окопов, но также из хорошо замаскированных в лесах и скалах ДОТов. Применение против ДОТов танков вместо осадных орудий, конечно, ощутимо сдерживало темпы продвижения и вело к большим потерям в советских войсках пехоты и танков, отсечённых пулемётным огнём противника от пехоты.
Но всё-таки главная причина медленного продвижения советских войск заключалась не в этом, а в том, что Красная Армия не имела преимущества над финской армией в количестве войск, которое для успеха обязательно надо иметь наступающей армии в месте наступления на обороняющегося противника. Рассказы о «людских волнах», штурмующих ДОТы, в значительной степени являются, мягко говоря, преувеличением.
«Численность финских войск на Карельском перешейке составляла 130 тысяч человек, советских 169 тысяч. Соотношение 1:1,3… И против 80 финских батальонов, опирающихся на долговременные сооружения, было 84 стрелковых батальона РККА… Одним словом, силы сторон на Карельском перешейке были практически равными, разница была в том, что финны сидели в бетонных коробках, а у РККА была масса танков с противопульным бронированием» [66, с. 58].
Читать дальше