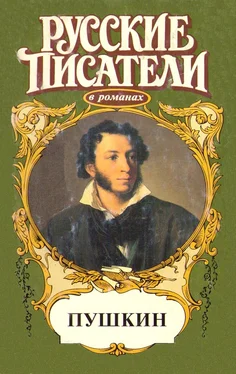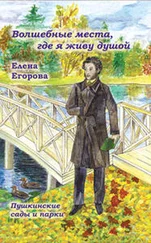Голос у барона при его рассуждениях иногда срывался, он обещал сам приехать на юг, если какие-нибудь обстоятельства, к примеру романтические, задержат Пушкина. Но представить, чтоб вот так, как Жанно, через волчьи вёрсты, через сугробы Дельвиг вломился в занесённый двор — нет, этого представить было невозможно...
— Дельвиг мне год только ссылки обещал, да вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Который уже идёт? Шестой.
— Авось — последний. — В голосе Жанно большой уверенности что-то не слышалось. Надо было переводить разговор, он и перевёл его. Стали вспоминать лицейских: Малиновский, Матюшкин, Яковлев [83]. Дельвига Жанно назвал после Илличевского [84], упомянув и стихи Олосеньки, а Кюхлю [85]вовсе не вспомнил.
— ...Вольховский [86]отлично служит. Ещё из жалованья и наград слепому отцу помогает...
Вольховский всегда был непостижим силой духа и какой-то исступлённой самоотверженностью. Он был рад за Вольховского, служба которого шла своим чередом, раз и награды доставались... Он был рад за Матюшкина, Малиновского, Яковлева, за Олосеньку.
— А что Данзас [87]?
— Служит. Сам доволен, им довольны. А помнишь, и ты метил в военные?
— Было. — Пушкин засмеялся. — Да судьба как определила: мне капусту поливать в своей пустыне, тебе — в уголовные судьи, из гвардии по доброй воле да и не без некоего умысла, я полагаю?
На этих словах он нагнулся со своего кресла к Пущину, как бы приготовившись услышать наконец тайну, о которой догадывался ещё в Петербурге.
Пущин промолчал, только улыбнулся и кивнул согласно.
За дверями, в сенях, шелестели, переступая, быстрые ноги; кто-то сбрасывал с плеча на пол увесистые вязанки дров; звенели ведра, и ворчливо-весёлый голос няньки отдавал последние распоряжения перед обедом.
— Ты тогда на генерала Киселёва полагался и на Орлова. А мне тебя за фалды оттянуть от них хотелось.
— И напрасно... И очень напрасно, душа моя! Протекция — что? Она всегда обманет. Они по двенадцатому году были мне дороги. А? Ведь я не философ, а поэт, что составляет чертовскую разницу и отвращает от капусты, душа моя! — Он засмеялся, закидывая голову, как обманувший кого-то хорошей шуткой. — Впрочем, от капусты никуда нам не деться, пирогами именно с ней, сердешной, няня потчевать станет.
Пущин хорошо помнил, как до ссылки, в Петербурге друг пытался припереть его к стенке, узнать, существуют ли тайные общества в России и не является ли он членом одного из них?
Сейчас он ответил ему не столько словами, сколько взглядом, согласным кивком: существуют.
Вдруг в середине разговора Пушкин вспомнил со смехом и не без самодовольства, будто царь нынче страшно испугался, увидев его фамилию в списках прибывших в столицу. Выяснилось: явился Пушкин Лев, всего-навсего младший брат.
Сказал и посмотрел вопросительно: анекдот? Или можно верить? Тому, что царь связал с его мнимым приездом в столицу приближение каких-то событий? Политических, разумеется.
Пущин сидел румяный от здоровья, с мороза. Руки были скрещены спокойно.
— Политиком тебя никто не числит, и царь — тоже. Не льстись. Но поэтическая слава твоя растёт, этого ли мало? Не одни барышни наизусть заучивают, и мы, грешные...
Обида была так сильна, что краска бросилась в лицо, он прижал руки к груди и смотрел на Пущина почти так, как бывало в Лицее. Они все, они решительно все: Вяземский, Жуковский, а теперь Жанно — с большой охотой приучали его к мысли, что он поэт — не более того.
— Я не добиваюсь знать, какие именно тайные общества на Руси. И очень понимаю, что не стою доверия господ, затевающих их. Так, душа моя, может, стою в таком случае хотя бы недоверия? Царского? Или и в этом мне отказано?
Пущин взглянул на него исподлобья, тоже прежним взглядом, останавливающим вспышку и ненужные, может быть, готовые вырваться сгоряча слова.
— Как дело ни верти, ты меня обижаешь. Царь всё-таки не за стихи о розе меня ссылкой отметил. — Пушкин сказал это резко, но тут же обмяк, улыбнулся. Они вскочили одновременно, забросили друг другу руки на плечи и принялись ходить по тесной комнате, как когда-то ходили по коридорам Лицея, по дорожкам под липовыми сводами, по розовому полю.
То прежнее, на всю жизнь дружеское тепло должно было вытеснить обиду — обида оставалась. Даже плечи и руки его будто затвердели, не так охотно отозвались на объятья Пущина...
Как они не понимали и все вместе: он не мог быть другим, лучшим, забывшим ради музы самое жизнь, знающим себе цену, не влюблённым в Элизу Воронцову, не сочиняющим эпиграмм, медлительно важным от приметно сохраняемого достоинства? Он мог быть только самим собой, и, как бы он сам себя ни держал за руки, муза непременно должна была привести его сюда, в Михайловское. Именно — муза — в ссылку...
Читать дальше