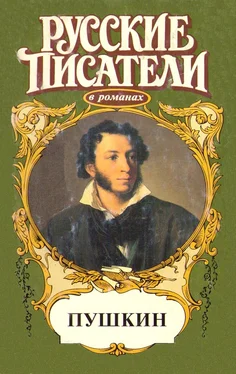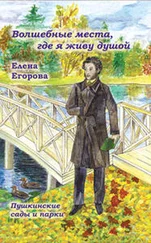Но ведь это и были только слова. Ни его смерти, ни своей жизни без него, ни толпы под окнами, невероятной, необъяснимой множеством, ни метели, заметавшей последнюю дорогу, о какой горестно рассказывал Александр Иванович Тургенев, — ничего этого она не представляла, не предвидела, не могла, не пыталась, не собиралась осмыслить как возможное.
Не представляла также, к своему счастью, ни той соломы, на которую торопливо, по-воровски был брошен гроб, забитый в ящик, ни той рогожи, какой был укутан отнюдь не от разрушающей силы ветра и снега, а всего лишь, чтоб избежать любопытства... Ничего не знала она и о постыдной скорости, с какой мчали мёртвого Пушкина — подальше, подальше, чтоб не возбуждал, не возмущал, как упорно делал это при жизни...
Рассказ прелестнейшего человека Александра Ивановича Тургенева был предельно корректен, даже изящен. В искреннем горестном недоумении он падал головой в руки, вспоминая, как определял Пушкина в Лицей, и вот теперь он же — предавал земле.
Что касается Никиты, тут дело особое, его нельзя обойти.
...Старый «дядька» пушкинский хлебнул холодного, как железо, жёсткого воздуха, да так тот холод и остался в нём, когда на одной из станций случился разговор. Барыня вышла из станционного домика к своей кибитке, остановилась, вглядываясь в ящик, рогожу, жандармов.
А больше всего в ту судорожную торопливость, с какой меняли лошадей.
Барыня стояла ещё без догадки, но смущённая — Никита видел. Жандармский офицер, быстрый, сухолицый от зла, обошёл барыню взглядом, будто заранее предупреждая вопросы. Сам ни к чему поправил рогожу, потом крякнул на жандарма, бровью повёл — некрепкий, размочалившийся узел верёвки, держащей гроб, болтался свободно:
— Потерять хочешь? Стягивай, стягивай, сучья морда, пока самого узлом не связали.
У офицера глаза были налитые: водкой, злостью, страхом (Никита видел) перед тем, что всё в пути вдруг ни с того ни с сего может пойти не так, закружиться в обратную сторону. И барыня, внимательная, острая (Никита видел), ему была ни к чему.
Барыня подошла к ямщику; стала у самой лошадиной, пофыркивающей горячим паром головы.
— Кого везут? — Значит, поняла, хоть прикрывай рогожей, хоть нет: ящик длинный, наскоро сколоченный. Что в таком? Скорее всего — гроб.
— Кого везут? — спросила барыня, может быть, уже и догадываясь, кого так могут везти, чтоб и мёртвого с жандармами.
— Вишь, какой-то Пушкин убит. Вот и мчат его на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, — как собаку.
Барыня открыла рот, как будто хотела сказать: «Ах!» Но ничего такого, простого, женского, перед лёгкими слезами не сказала. Стояла вся серая и за горло держалась: тот самый железный воздух и в неё вошёл.
Барыня была женой цензора Никитенко [168].
По поводу этой встречи в дневнике Никитенко появилась сдержанно-скорбная запись. А кроме того, многие примечательные строки были в нём, и я не могу удержаться, чтоб не привести их. Тем более что пишет человек другой ориентации, другого лагеря, разночинец, умеренный чиновник, пробившийся из крепостных в профессора.
Вернёмся же на некоторое время назад, к похоронам Пушкина:
«Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Всё, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, — всё стеклось к церкви, где отпевали поэта.
...Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю своё прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это запрещено! Они тайком, как воры, должны прокрадываться к нему».
«Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но вместо очередной я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!»
И через несколько дней в том же дневнике идёт запись: «Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышной похвалою, напечатанною в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду».
Итак, Уваров и мёртвому Пушкину не может простить «Выздоровления Лукулла»».
Читать дальше