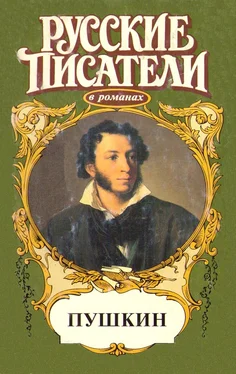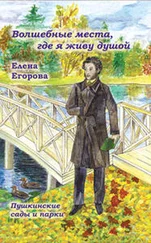Забегая вперёд, скажу: «Пугачёв» принёс одни убытки. Большая часть из 3000 изданных экземпляров не была продана. Что же касается общественного мнения, оно не всколыхнулось. Царь легко и равнодушно разрешил Пугачёва печатать, отнёсся к нему как к безделке и тем задал тон.
Дальше ещё несколько писем к шефу жандармов по поводу получения денег и печатания «Пугачёва». Несколько — Нащокину, Погодину...
...Но вот 15 апреля 1834 года к матери, в имение Полотняный Завод, уезжает Наталья Николаевна. Письма к ней идут подряд, не прерываемые никакими другими разговорами.
Как резко, однако, изменился их тон по сравнению с тем, каким писалось с дороги, из Москвы, Болдина. Возможно, потому, что Пушкин теперь оставался в Петербурге, свободный от семейственной суеты, но крепко привязанный к тому, что его мучило, угнетало, оскорбляло? Прежде всего к своему камер-юнкерству.
Правда, при этом поэт ещё цепляется за мысль, что царь не хотел его обидеть, так вышло...
А дальше идут увёртки, отговорки, попытки закрыть глаза на то, что уже произошло, пренебречь. Вот строки из писем, это обнаруживающие.
«...нашёл на своём столе два билета на бал 29-го апреля и приглашение явиться на другой день к Литте [144]; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни... Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придётся выступать с Безобразовым или Реймарсом. Ни за какие благополучия».
(Вы улавливаете иронию в этих строках? Я — нисколько. Мне кажется, Пушкину страшно. Страшно в самом деле, как птице в руках жестоко любопытствующего мальчишки. Она ведь никак не знает границ его власти над собой). «Письмо твоё послал я тётке, а сам к ней не отнёс, потому что рапортуюсь больным и боюсь царя встретить». «Нынче великий князь присягал; я не был на церемонии, потому что рапортуюсь больным, да и в самом деле не очень здоров», «...завтра будет бал, на который также не явлюсь...»
И наконец письмо, знаменующее перелом. Может быть, именно с этой поры всё покатилось под горку.
18/V—1834 г. Из Петербурга в Ярополец.
«...Я тебе не писал, потому что был зол — не на тебя, на других. Одно из моих писем попалось полиции и так далее. Смотри, жёнка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даёшь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе не для печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет.
...Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно, когда лёг 20 человек был независим. Это не упрёк тебе, а ропот на самого себя».
29/V—1834 г. Из Петербурга в Полотняный Завод.
«...с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе: и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольство».
3/VI—1834 г.
«Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство... Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя».
8/VI—1834 г.
«Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что ещё хуже, опутать себя денежными обстоятельствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всём этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни...
Читать дальше