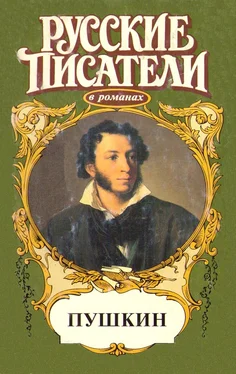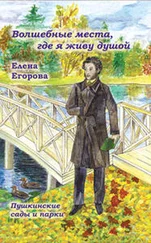— Булгарин в моём доме не бывает, как, полагаю, и в вашем, ваше превосходительство...
— Он полагает! Предполагает... — Шеф жандармов задумался на минуту, как перед важным решением. Решение к нему пришло, он сказал веско: — Мы предполагаем, да Бог — располагает. Цензора — под суд! Газеты больше и памяти не будет!
...Газета, на некоторое время прекращённая, даст Бог, воскреснет и продерётся сквозь рогатки, придирки, подозрительность цензуры. Да вот он сам — плох. И нынешней радости не вышло. Кто-то распустил слух, мол, выставили Фаддея к позорному столбу в книжной лавке не то Лисенкова, не то Сленина и продают по синенькой, пятирублёвой, ассигнации. Ан нет!
Тут Дельвиг почувствовал особую слабость во всех членах, как будто сама жизнь уходила из него оттого, что анекдот этот так и оказался — анекдот.
Жена принесла чаю и, позвякивая ложечкой в стакане, смотрела на него встревоженно.
— Только ли радости в жизни? Только ли? — сказала умные слова, поставив стакан на столик рядом с диваном. — Жизнь так длинна ещё, успеете и на кулачках подраться. Садитесь, Аннет, садитесь, сейчас подадут и печенье, нынче славное вышло, сами пекли...
Она была молода, любима и многого не понимала. Будущее рисовалось ли ей? А если — да, то в каком свете? И уж во всяком случае, не могла она себе представить, что через несколько месяцев, отвернувшись к стене, вот на этом самом диване скончается её муж, поэт Антон Антонович Дельвиг. Человек, о котором говорили: приятнее, мягче в обращении, честнее в делах, вернее в дружбе — не сыскать.
Что прекратило его жизнь? Как будто — гнилая горячка. Многие болезни тогда так определяли. Но при том надо помнить обязательно: за несколько дней до этого Бенкендорф опять вызвал Дельвига и, когда выговаривал, губы его были узки и непримиримы. И хотя слова шефа жандармов на этот раз оказались куда умереннее, в глазах мёртвой злобой прыгала серая балтийская волна. Дельвиг вдруг понял: шеф жандармов выбрал его. Из трёх ненавистных — именно его.
Он прикрыл глаза, почти не слушая, представляя, как под таким-то градом стояли бы Пушкин или Вяземский. В том-то и шутка: града бы не было... Было бы что-то другое — молния?
Так он подумал и через несколько дней умер на своём диване... Оскорблённый в своём достоинстве, честнейший человек, не заговорщик, не тираноборец — друг Пушкина.
Однако всё это случится не сегодня, не завтра — через два месяца, в январе следующего года. Пока же они пьют чай и, перестав ругать Булгарина и вспоминать Бенкендорфа, говорят о Пушкине. О его предстоящей женитьбе, о том, что он, наверное, уже вернулся в Москву.
...От Пушкина за это время было одно письмо от 4 ноября из Болдина: «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов <...>. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века и не знаю, в чём дело — и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина...»
Письмо было весёлое, Пушкин балагурил, не зная, что пишет к другу в последний раз.
Начинался декабрь 1830 года. До свадьбы всё ещё было далеко.
Пушкин сидел в штофной угловой гостиной и ждал Наталью Ивановну. Она, приглашая его к себе в московский дом на Никитской для каких-то последних решений, для советов и бесконечных разговоров, имела дурную привычку выходить не сразу. У неё было много дурных привычек. Но в том состоянии, в каком он находился сейчас, приходилось сносить всё. Он сидел, угадывая звуки дальних комнат, не поэт, не своенравный юноша — совсем нет. Скорее удручённый заботами немолодой человек.
Обои расползались длинными продольными ленточками, кое-где уже и от стен отклеиваясь. Рисунок на них был самый непритязательный: меж матовых и атласно блестевших полосок цветы шиповника. Белый столик, стоявший перед ним, был облуплен, и мелкая сетка трещин прошлась по потолку. Стояла тишина, будто -никто к нему и не собирался выходить. В соседней комнате сама по себе горела изразцовая печь, слуг тоже не было ни слышно, ни видно.
Цветы шиповника, мирный треск дров, со двора к окнам лепился пушистый декабрьский снег, а он вдруг понял, что делает непоправимое, от чего надо бежать. Побег возможен был один — к белому утреннему листу. Или ко вчерашнему: в помарках, в набросках, в профилях, кавказских бурках и всё ещё тревожащих лёгких ножках. Побег был возможен, если говорить не иносказаниями, в Остафьево к Вяземским [136], под добрый, понимающий взгляд княгини Веры, под насмешки друга. Или под его защиту? Вяземский считал, что ему, Александру Пушкину, не след жениться. О том же самом писала из Петербурга Элиза Хитрово [137], чёрт бы их обоих побрал и вместе...
Читать дальше