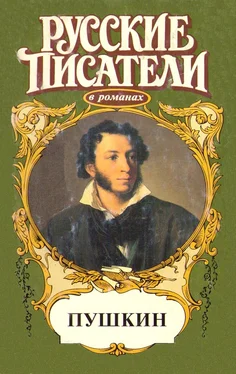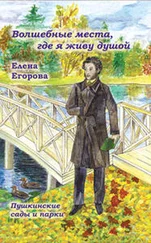Как раз в этом месте царь пошевелил пальцами, будто слегка подзывая к себе кого-то неопределённого. Что означало: следует повторить или дать время на обдумывание. Иногда этому жесту сопутствовала недовольная складка между бровями, однако тут лоб Николая Павловича разгладился почти безмятежно, он сказал:
— Мадам Гончарову надо успокоить. Претензии её необоснованны, положим. Но — мать. Сколько их там, детей? Три дочери и три сына, говоришь?
Царь ещё раз пошевелил белыми большими пальцами:
— Но младшая красавица действительная. Только зачем — Пушкин?
— Майорат в Полотняном Заводе доходов не приносит; отец — не в себе; семейство несчастливо и разорено.
— Можно было бы как-нибудь... Семейство почтенное, отмеченное. — Государь замолчал на секунду, что-то вспоминая. — Впрочем, пусть будет Пушкин.
— Женится — переменится, — подтвердил главную мысль разговора Александр Христофорович. Мысль-то главную, но не высказанную до тех пор в открытую. Ибо за ней скрывалось затянувшееся ожидание перемен в поведении поэта.
— Ну что ж, — царь положил руку на стол, — ты напишешь, что надо. И барыню успокой, и поэта. Влюблён?
Вопрос был внезапен, как выстрел.
— В меру сил души, уже ранее развращённой и помыслами, и доступностью интриг. Москва его на руках и по сей день носит.
Говорить так было решительно нельзя. По-настоящему-то Москва имела право носить на руках одного лишь императора, всего-навсего отдавая должное своему герою. Однако, оговорившись, Бенкендорф тут же и объяснил: потому носит, что помнит — кто по слухам помнит, кто сам видел, как царь в Москве, в Чудовом дворце вышел из кабинета, держа руку на плече поэта: «Господа, это теперь другой Пушкин. Это теперь мой Пушкин». В двадцать шестом было, давненько. Как волка ни корми...
Бенкендорф любил к случаю употреблять русские поговорки. Настало время, когда все к случаю вытаскивали из памяти или нарочно затверживали: бережёного Бог бережёт, не всё коту масленица, с волками жить — по-волчьи выть.
— Как волка ни корми... — повторил Александр Христофорович вслух. Это был понятный им, царю и жандарму, намёк на неблагодарность Пушкина. Хотя, если придут заботы семейственные... И не таких жеребчиков меж оглобель ставили.
— А она точно красавица, — не его, свои какие-то мысли подтвердил царь. — Но из небойких. Однако не дай Бог ему — бойкую. Бойких во-о-он до каких пределов жизнь доводит...
Неизвестно, что хотел он сказать последними словами. Или, вернее, известно. Бенкендорф нащупал в папке весьма занимавшую его бумагу. Бумага касалась молодого генерала, пушкинского знакомца Николая Николаевича Раевского.
Чрезвычайно удачно и притом будто бы случайно соединялись имена Пушкина и Раевского, Бенкендорф даже зарделся слегка плоскими скулками. Он легко краснел от гнева ли, от удовольствия ли. Седеющие волосы стояли над обширным лбом мыльной, хорошо взбитой пеной. И никакой злодейской складки у губ не замечалось. Заурядность глядела из этого лица, и не остаться бы ему в памяти потомков, если бы не так умело докладывал царю, не так ловко подкладывалось: Пушкин, не изменившийся до сих пор, согласно пожеланиям государя, а это, видите ли, Раевский, сын героя двенадцатого года, а сам кто? Потворщик и попуститель. А чуть раньше письмецо мы с вами, ваше императорское величество, рассматривали. Откуда оно? Оттуда, из запредельной черты, с просьбой, вернее сказать, с мольбой. Но всякая ли молитва должна доходить до Господа? На всякую ли Он должен откликаться?..
В беззвучных монологах своих Бенкендорф был куда более пространен, чем в обыкновенном разговоре.
— Ваше величество, бумаги генерала Раевского-младшего приведены мною в порядок удобочитаемый. Прикажете оставить вместе с моим заключением?
Царь спросил живо:
— А заключаешь что? Опасен ли?
— Только дурным примером.
— Ну, дурным примером нынче не удивишь. А что, Волконская Мария назад от мужа не просится?
— Не было от неё прошений.
— Горды Раевские. Горды.
Бенкендорф прикрыл глаза, подтверждая: горды.
В имение Полотняный Завод знакомиться с дедушкой и вообще входить в семейство поехали, когда травы уже вовсю цвели.
Дорога была мягкая, ещё влажная, без пыли, берёзовые леса и рощи стояли по краям её, в колеях сохли голубые длинные лужи...
Кучевые облака над головой плыли медленно, как многопарусные суда, достойно, величаво, пожалуй, даже надменно.
Читать дальше