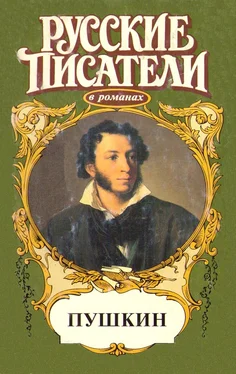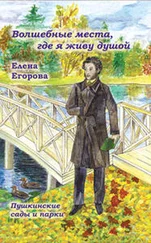Перо стукнуло о самое дно чернильницы — руку не удержал. Он знал за собой слабость: распаляясь, хватать через край, поэтому стоило отдышаться, посидеть некоторое время в раздумье. Но и отдышавшись, писал пасквиль, не что иное. Фамилий не упоминалось, так было построено, что всё сходилось на Пушкине, выведенном в фельетоне под видом «природного француза, служащего усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступлённым в басне Пильпая, бросающим камнями во всё священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на краплёных листах, и у которых одно господствующее чувство — суетность».
Всё это, положим, могло бы быть и смешно, когда бы не было так грустно.
Начнём с ошибки Фаддея Венедиктовича. До ярости, столь необузданной, довёл его анонимный отзыв о «Дмитрии Самозванце», напечатанный в «Литературной газете» от седьмого марта 1830 года. Между тем автором отзыва был не Пушкин — Дельвиг...
Но сделанное сделано. И вот, прочитав фельетон, около 18 марта того же 30-го года из Москвы в Петербург Пушкин пишет Вяземскому: «Булгарин изумил меня своею выходкою, сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно — но распутица, лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы, а дубины в 800 вёрст длины в России нет...»
Длиннее любой дубины, однако, слово. Пушкин в 20-м номере «Литературной газеты» напечатал статью, названную: «О записках Видока».
Эта статья — один из тех литературных материалов, коими рассчитался он с Булгариным. Оставил от него мокрое место и не более того.
Видок был лицо действительное — французский полицейский сыщик [128]. Но счастливое совпадение для русского уха: Видок — подглядывающий. Речь (так же как в пасквиле Булгарина) идёт о французе, о далёком, чужом человеке, но в каждой строчке узнается иной адресат.
«Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека.
Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом <...>, как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! <...>. Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностью толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях...»
Дальше шли действительно французские фамилии, но как легко было заменить их русскими, а всё сказанное о Видоке сопоставить с плутнями Булгарина...
Продолжаем чтение:
«...Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слове (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений...»
В этой статье Пушкин первейшей целью, конечно, имеет: прихлопнуть Булгарина, хорошо бы вместе с его сукой «Северной пчелой». Но кроме того, статья всерьёз ставит вопрос, нравственен ли интерес публики к запискам сыщика, палача (Самсона) и вообще к литературе подобного рода? «Нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия...»
Статьи, пожалуй что, и недостаточно. По рукам пущена эпиграмма:
Не то беда, что ты поляк;
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Чего ж, кажется, лучше — прямо в лоб, без обиняков? Давно понятно литературной и окололитературной публике прозвище Булгарина — Фиглярин, в котором слышится и второе — Флюгарин. Флюгарин — значит, куда ветер дует, туда и он клонит, меняет взгляды, мельтешит. Но согласитесь, это далеко не одно и то же, что прямой шпион. Теперь же после сопоставления е парижским сыщиком понятно — ещё и сотрудник III отделения, доносчик, клеветник.
Читать дальше